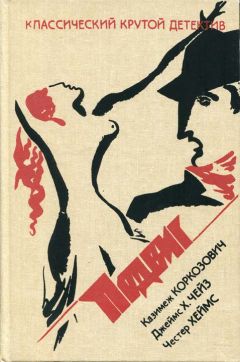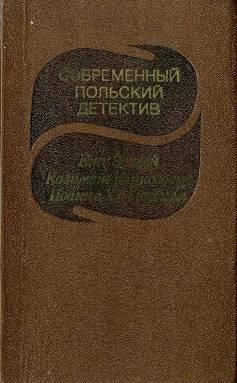Антон Чехов - Рассказы. Повести. Пьесы
— Нянька, для чего я жила до сих пор? Для чего? Ты скажи: разве я не погубила своей молодости? В лучшие годы своей жизни только и знать, что записывать расходы, разливать чай, считать копейки, занимать гостей и думать, что выше этого ничего нет на свете! Нянька, пойми, ведь и у меня есть человеческие запросы, и я хочу жить, а из меня сделали какую-то ключницу. Ведь это ужасно, ужасно!
Она швырнула ключи в дверь, и они со звоном упали в моей комнате. Это были ключи от буфета, от кухонного шкапа, от погреба и от чайной шкатулки, — те самые ключи, которые когда-то еще носила моя мать.
— Ах, ох, батюшки! — ужасалась старуха. — Святители-угодники!
Уходя домой, сестра зашла ко мне, чтобы подобрать ключи, и сказала:
— Ты извини меня. Со мною в последнее время делается что-то странное.
VIIIКак-то, вернувшись от Марии Викторовны поздно вечером, я застал у себя в комнате молодого околоточного в новом мундире; он сидел за моим столом и перелистывал книгу.
— Наконец-то! — сказал он, вставая и потягиваясь. — Я к вам уже в третий раз прихожу. Губернатор приказал, чтобы вы пришли к нему завтра ровно в девять часов утра. Непременно.
Он взял с меня подписку, что я в точности исполню приказ его превосходительства, и ушел. Это позднее посещение околоточного и неожиданное приглашение к губернатору подействовали на меня самым угнетающим образом. У меня с раннего детства остался страх перед жандармами, полицейскими, судейскими, и теперь меня томило беспокойство, будто я в самом деле был виноват в чем-то. И я никак не мог уснуть. Нянька и Прокофий тоже были взволнованы и не спали. К тому же еще у няньки болело ухо, она стонала и несколько раз принималась плакать от боли. Услышав, что я не сплю, Прокофий осторожно вошел ко мне с лампочкой и сел у стола.
— Вам бы перцовки выпить… — сказал он, подумав. — В сей юдоли как выпьешь, оно и ничего. И ежели бы мамаше влить в ухо перцовки, то большая польза.
В третьем часу он собрался в бойню за мясом. Я знал, что мне уже не уснуть до утра, и, чтобы как-нибудь скоротать время до девяти часов, я отправился вместе с ним. Мы шли с фонарем, а его мальчик Николка, лет тринадцати с синими пятнами на лице от ознобов, по выражению — совершенный разбойник, ехал за нами в санях, хриплым голосом понукая лошадь.
— Вас у губернатора, должно, наказывать будут, — говорил мне дорогой Прокофий. — Есть губернаторская наука, есть архимандритская наука, есть офицерская наука, есть докторская наука, и для каждого звания есть своя наука. А вы не держитесь своей науки, и этого вам нельзя дозволить.
Бойня находилась за кладбищем, и раньше я видел ее только издали. Это были три мрачных сарая, окруженные серым забором, от которых, когда дул с их стороны ветер, летом в жаркие дни несло удушливою вонью. Теперь, войдя во двор, в потемках я не видел сараев; мне все попадались лошади и сани, пустые и уже нагруженные мясом; ходили люди с фонарями и отвратительно бранились. Бранились и Прокофий и Николка так же гадко, и в воздухе стоял непрерывный гул от брани, кашля и лошадиного ржанья.
Пахло трупами и навозом. Таяло, снег уже перемешался с грязью, и мне в потемках казалось, что я хожу по лужам крови.
Набравши полные сани мяса, мы отправились на рынок в мясную лавку. Стало светать. Пошли одна за другою кухарки с корзинами и пожилые дамы в салопах. Прокофий с топором в руке, в белом, обрызганном кровью фартуке, страшно клялся, крестился на церковь, кричал громко на весь рынок, уверяя, что он отдает мясо по своей цене и даже себе в убыток. Он обвешивал, обсчитывал, кухарки видели это, но, оглушенные его криком, не протестовали, а только обзывали его катом. Поднимая и опуская свой страшный топор, он принимал картинные позы и всякий раз со свирепым выражением издавал звук «гек!», и я боялся, как бы в самом деле он не отрубил кому-нибудь голову или руку.
Я пробыл в мясной лавке все утро, и когда наконец пошел к губернатору, то от моей шубы пахло мясом и кровью. Душевное состояние у меня было такое, будто я, по чьему-то приказанию, шел с рогатиной на медведя. Я помню высокую лестницу с полосатым ковром и молодого чиновника во фраке со светлыми пуговицами, который молча, двумя руками, указал мне на дверь и побежал доложить. Я вошел в зал, в котором обстановка была роскошна, но холодна и безвкусна, и особенно неприятно резали глаза высокие и узкие зеркала в простенках и ярко-желтые портьеры на окнах; видно было, что губернаторы менялись, а обстановка оставалась все та же. Молодой чиновник опять указал мне двумя руками на дверь, и я направился к большому зеленому столу, за которым стоял военный генерал с Владимиром на шее.
— Господин Полознев, я просил вас явиться, — начал он, держа в руке какое-то письмо и раскрывая рот широко и кругло, как буква о, — я просил вас явиться, чтобы объявить вам следующее. Ваш уважаемый батюшка письменно и устно обращался к губернскому предводителю дворянства, прося его вызвать вас и поставить вам на вид все несоответствие поведения вашего со званием дворянина, которое вы имеете честь носить. Его превосходительство Александр Павлович, справедливо полагая, что поведение ваше может служить соблазном, и находя, что тут одного убеждения с его стороны было бы недостаточно, а необходимо серьезное административное вмешательство, представил мне вот в этом письме свои соображения относительно вас, которые я разделяю.
Он говорил это тихо, почтительно, стоя прямо, точно я был его начальником, и глядя на меня совсем не строго. Лицо у него было дряблое, поношенное, все в морщинах, под глазами отвисали мешки, волоса он красил, и вообще по наружности нельзя было определить, сколько ему лет — сорок или шестьдесят.
— Надеюсь, — продолжал он, — что вы оцените деликатность почтенного Александра Павловича, который обратился ко мне не официально, а частным образом. Я также пригласил вас неофициально и говорю с вами не как губернатор, а как искренний почитатель вашего родителя. Итак, прошу вас — или изменить ваше поведение и вернуться к обязанностям, приличным вашему званию, или же, во избежание соблазна, переселиться в другое место, где вас не знают и где вы можете заниматься, чем вам угодно. В противном же случае я должен буду принять крайние меры.
Он с полминуты простоял молча, с открытым ртом, глядя на меня.
— Вы вегетарианец? — спросил он.
— Нет, ваше превосходительство, я ем мясо.
Он сел и потянул к себе какую-то бумагу; я поклонился и вышел.
До обеда уже не стоило идти на работу. Я отправился домой спать, но не мог уснуть от неприятного, болезненного чувства, навеянного на меня бойней и разговором с губернатором, и, дождавшись вечера, расстроенный, мрачный, пошел к Марии Викторовне. Я рассказывал ей о том, как я был у губернатора, а она смотрела на меня с недоумением, точно не верила, и вдруг захохотала весело, громко, задорно, как умеют хохотать только добродушные, смешливые люди.
— Если бы это рассказать в Петербурге! — проговорила она, едва не падая от смеха и склоняясь к своему столу. — Если бы это рассказать в Петербурге!
IXТеперь мы виделись уже часто, раза по два в день. Она почти каждый день после обеда приезжала на кладбище и, поджидая меня, читала надписи на крестах и памятниках; иногда входила в церковь и, стоя возле меня, смотрела, как я работаю. Тишина, наивная работа живописцев и позолотчиков, рассудительность Редьки, и то, что я наружно ничем не отличался от других мастеровых и работал, как они, в одной жилетке и в опорках, и что мне говорили ты — это было ново для нее и трогало ее. Однажды при ней живописец, писавший наверху голубя, крикнул мне:
— Мисаил, дай-ка мне белил!
Я отнес ему белил, и, когда потом спускался вниз по жидким подмосткам, она смотрела на меня, растроганная до слез, и улыбалась.
— Какой вы милый! — сказала она.
У меня с детства осталось в памяти, как у одного из наших богачей вылетел из клетки зеленый попугай и как потом эта красивая птица целый месяц бродила по городу, лениво перелетая из сада в сад, одинокая, бесприютная. И Мария Викторовна напоминала мне эту птицу.
— Кроме кладбища, мне теперь положительно негде бывать, — говорила она мне со смехом. — Город прискучил до отвращения. У Ажогиных читают, поют, сюсюкают, я не переношу их в последнее время; ваша сестра — нелюдимка, mademoiselle Благово за что-то ненавидит меня, театра я не люблю. Куда прикажете деваться?
Когда я бывал у нее, от меня пахло краской и скипидаром, руки мои были темны — и ей это нравилось; она хотела также, чтобы я приходил к ней не иначе, как в своем обыкновенном рабочем платье; но в гостиной это платье стесняло меня, я конфузился, точно был в мундире, и потому, собираясь к ней, всякий раз надевал свою новую триковую пару. И это ей не нравилось.
— А вы, сознайтесь, не вполне еще освоились с вашею новою ролью, — сказала она мне однажды. — Рабочий костюм стесняет вас, вам неловко в нем. Скажите, не оттого ли это, что в вас нет уверенности и что вы не удовлетворены? Самый род труда, который вы избрали, эта ваша малярия — неужели она удовлетворяет вас? — спросила она, смеясь. — Я знаю, окраска делает предметы красивее и прочнее, но ведь эти предметы принадлежат горожанам, богачам и, в конце концов, составляют роскошь. К тому же вы сами не раз говорили, что каждый должен добывать себе хлеб собственными руками, между тем вы добываете деньги, а не хлеб. Почему бы не держаться буквального смысла ваших слов? Нужно добывать именно хлеб, то есть нужно пахать, сеять, косить, молотить или делать что-нибудь такое, что имеет непосредственное отношение к сельскому хозяйству, например, пасти коров, копать землю, рубить избы…