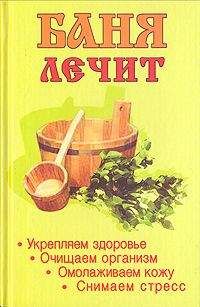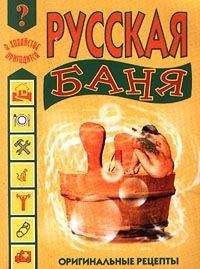Александр Куприн - Голос оттуда: 1919–1934
Помню я сентябрь 1914 года, раннее солнечное утро и Ковельский вокзал — единственное место в городе, где можно было получить кофе с хлебом. Подошел какой-то коротенький пассажирский поезд. Я вышел на платформу, и первый, кого я увидел, был вылезавший из вагона старый мой друг А. М. Федоров, известный поэт, романист и драматург, с которым я не видался лет шесть. Обрадовались, обнялись, засыпали друг друга вопросами без ответа, ответами невпопад… как всегда это бывает. Оказалось, А. М. едет в действующую армию вместе с другими корреспондентами с особого разрешения высшего военного начальства и в сопровождении специальных осведомителей из офицеров генерального штаба. Об этой исключительной милости я слышал раньше, даже сам хлопотал пристроиться в этот поезд, но мне не повезло. В ту пору весьма косо и недоверчиво глядели власти на газетных сотрудников. (Впоследствии — чересчур неразборчиво.)
— Пойдем к нам, — предложил А. М.
Их было человек десять. Помню В. И. Немировича-Данченко, Людовика Нодо, Сыромятникова (Сигму). Кое с кем меня впервые познакомили. Представили и двум щеголеватым, безукоризненно-вежливым, сквозь служебную и выдержанную сухость, капитанам генерального штаба.
Мне кажется, что старые военные корреспонденты так же безошибочно должны узнавать друг друга по некоторым, порою неуловимым для чужого глаза признакам в одежде, манерах, походке и наружности, как узнают товарища по профессии цирковые артисты, наездники, летчики, настоящие охотники и военные в штатском. Все, что было на Василии Ивановиче и с ним, было как-то особенно легко, удобно, просто, практично и прочно: большая темная каскетка с прямым козырьком, английское, до колен, пальто с широким поясом, мягкие верховые сапоги, ловко пригнанный цейс; в руке — камышовый стек; ручной багаж не велик, но емок — шотландский плед в ремнях и чемодан темно-красной кожи вагонного размера…
Я с восхищением глядел на этого удивительного человека, давно перешагнувшего за шестой десяток: на его еще стройное тело, на свободные, уверенные движения, насовсем молодые глаза, с прежним удовольствием слышал его речь — живую, быструю, переливающуюся блестками мягкого, теплого юмора.
Поезд стоял долго. Мы вышли с ним на платформу поразмять ноги. Говорили о войне, о Петербурге, о прежних милых встречах. Вдруг В. И. резко остановился и, совсем не в ход разговору, воскликнул с негодованием:
— Нет, подумайте!
Я взглянул на него. Его лицо выражало горечь и обиду. Правая рука нервно дергала в одну и другую сторону седые бакенбарды (я их раньше застал еще изумительными, единственными, победоносными, черно-блестящими бакенбардами).
— Нет, подумайте, — продолжал он глухим, дрожащим от волнения голосом. — Ко мне… к нам… приставили этих двух молодых людей… этих «enfants d’une bonne famille»[51]. Нет, я ничего не хочу сказать о них дурного. Они милы и обходительны. Я думаю, что они хорошие образованные люди, примерные офицеры и храбрые солдаты. Но, черт побери, разве я нуждаюсь в чьей-нибудь опеке? В чьем-нибудь надзоре и руководстве? Эта война — восьмая по счету, на которую я отправляюсь корреспондентом. Восьмая, милостивые государи. Восстание карлистов, Хива, Туркестан, Турецкая кампания, Японская война, Турецко-славянская и, наконец, эта. Всюду до сих пор я встречал внимание доверие и помощь. А теперь? Загонят нас всех в дальний тыл — как своих ушей не видать мне будет ни фронта, ни боя, даже не услышу я выстрелов! Заставят нас всех, как учеников, послушно переписывать шпаргалку, сочиненную в штабе, — вот тебе и собственные корреспонденты с театра войны! За что же мне это оскорбление? Кто я в их глазах? Предатель? Немецкий шпион? Или я везу на фронт прокламации для солдат, против войны? Или я только штатский паникер? К этому, вот к этому самому месту на груди Михаил Дмитриевич Скобелев собственноручно прикрепил мне Георгиевский знак. Только я и художник Верещагин — из невоенных — были так отличены. И вдруг… Точно институтки… Попарно, в сопровождении двух классных дам. Какая грубая, какая ненужная обида!..
Я никогда не видел и даже не мог представить себе выдержанного, всегда спокойного В. И. в таком волнении. Мне нечего было сказать. Но я глубоко понимал и чувствовал всю справедливость его досады. Причинили жестокую моральную боль не только замечательному бытописателю войны и, бесспорно, лучшему, достойнейшему, славнейшему из русских военных корреспондентов, но и чистому, пламенному патриоту. Что тут скажешь?
Но он тотчас же справился со своей вспышкой:
— Простите, взорвало меня. Не будем об этом больше. Надеюсь, со временем все обойдется.
Зазвонил вокзальный колокол к отходу поезда. Мы простились. В. И. вдруг что-то вспомнил и задержался на минутку.
— Попадете на войну, — сказал он, — все равно — офицером или корреспондентом, не забудьте, носите всегда при себе средства от насекомых: серу в мешочке или корень сабадиллы. Помните, вошь на войне — страшнее пулемета. Ну, Христос с вами.
От него первого я услышал это грозное напоминание, роковое предупреждение.
Без заглавия*
25 марта русские художники (группа Малявина-Издебского) устраивают большой живописно-артистический вечер. Здесь не только повод, но и обязанность для журналиста вернуться к случаю, расколовшему Общество русских художников в Париже на две части, которым, полагаю, больше уже не срастись.
Публика мало уделила внимания этому прискорбному случаю, а между тем он был многозначителен. Произошло вот что.
Известно, что добрый город Париж устраивает в ближайшем времени грандиозную выставку декоративного искусства. А в этом искусстве кто же первые мастера, как не французы с их прирожденным вкусом, воображением, изяществом и остроумием? Можно почти безошибочно предсказать этой выставке широкий успех, который с излишком покроет нехватки прошлогодней Олимпиады.
Это будет праздник красоты, ума и культуры. Спрашивается: при чем же здесь советско-пролетарское искусство?
Выставка-международная. Я знаю, что многие знатоки и любители искусства охотно пошли бы поглядеть на декоративные работы таких стран, как
прелесть, детская естественность, а главное — милая свобода. Зайдут они, конечно, в «Pavillon Soviétique Archit. Melnikoff»[52]. Зайдут, посвистят меланхолично и скажут: «Все, что здесь хорошо, все это украдено из чужих особняков или у чужих умов. А все, что свое — то плохо».
Да и как же может быть иначе, если в Сесерии единственное оправдание искусства — лакейская служба правительству, единственное право на жизнь — пресмыкание перед большевиками и грубая лесть не только коммунизму, но и Чека? «Кровавые самодержавные тираны» старого режима руками своих цензоров черкали красным статьи, колеблющие трон, и карикатуры, оскорбляющие Величество, а также удаляли с выставок порнографические картины. Но кому бы из них пришла в голову шальная мысль потребовать для себя лести и восхваления от артистов пера, кисти или резца? (Мы не говорим о Пушкине и Жуковском, писавших оды: то был дух времени и то была их личная воля…)
У большевиков система:
За великое подобострастие — большой паек. За малое — малый. За молчание — ноль. А если ты в стихах, в книге или с кафедры осмелился пробурчать что-то не совсем приятное вождям пролетариата — ступай-ка, товарищ, на Лубянку или на Гороховую. О, страна неслыханной свободы слова!
Большевикам выставлять нечего. В этом на днях со смехом и свистом убедился славный город Лион, обозрев жалкий, смешной, шарлатанский павильон русской промышленности на Лионской выставке. И Париж, конечно, не ждет ничего нового и интересного от Москвы. Но есть такая деликатная, слабая уступчивость. Наглый человек так долго напрашивается на интересный дружеский обед, что ему, наконец, говорят: «Наплевать, милости просим».
Большевикам совсем не интересны прямые цели выставки. Главное — побольше шума, бума и даже хоть скандала. Главное — пустить пыль в нос своим, домашним, дуракам: «Мы уже равняемся с Европой и вскоре перегоним ее». Но самое главное — это, конечно, наводнить Париж и Европу своими агентами, ради сыска, подкупа, пропаганды, агитации, разложения, раздувания мирового пожара.
Все это старые вещи, всем известные и переизвестные слова. Тем не менее, едва услышав об участии СССР на декоративной выставке, Ларионов с небольшой кучкой футуристов побежал в советскую миссию: «Товарищи, примите и нас в игру!»
Не знаю, приняли их или нет. Но уж если примут, то, конечно, не задаром. Чувство симпатии к добрым открытым лицам или к выразительным влажным глазам большевикам неизвестна Если они кормят, то работу спрашивают вчетверо. Кто раз попал им в руки — скажи прощай прошлому. Да. Первую песенку, зардевшись, поют. От сменовеховства прямой и единственный путь в Совдепию, чистить сапоги и лизать пятки. Поступок же Ларионова и К° — чистейшее сменовеховство, подразумевая под этим термином не первичный литературный смысл, а нынешний, привычный, обиходный: то есть замаскированное, тихое, желанное предательство и прикрытый наивностным неведением подлый соблазн слабым. Назад им нет ходу. Прощать такие поступки не только слабость, но преступление. И вина больше, чем большевистская. Имена людей, побивавших каменьем великомученика, пропали для священной истории, но осталось имя того человека, который стерег их одежды, хотя этот человек и искупил потом свою вину мученичеством и лютой смертью Из двух преступников кто гнуснее? Свирепый убийца или трусливый пособник?