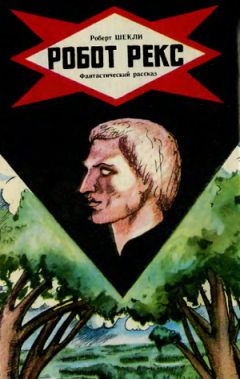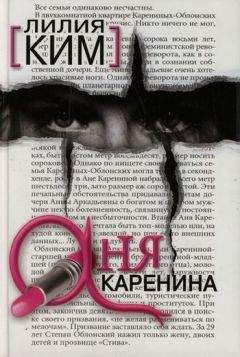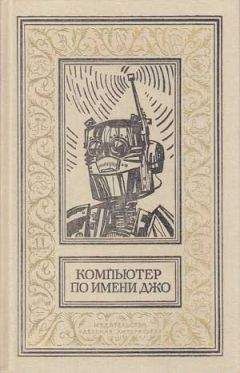Лев Толстой - Андроид Каренина
— Что, собственно, вы хотите от меня? — повертываясь на кресле и защелкивая свой pince-nez, сказал он.
— Решения, какого-нибудь решения, Алексей Александрович. Я обращаюсь к тебе теперь («не как к оскорбленному мужу», — хотел сказать Степан Аркадьич, но, побоявшись испортить этим дело, заменил это словами: не как к государственному человеку (что вышло некстати), а просто как к человеку, и доброму человеку и христианину. Ты должен пожалеть ее, — сказал он.
В то время как Облонский говорил, Каренин очень медленно и с большой осторожностью отвинтил указательный палец правой руки, положил его на стол и прикрутил на его место гладкую, ужасно выглядевшую насадку. Длиной она была примерно с палец, но выполнена из цельного черного металла.
— То есть в чем же, собственно? — наконец сказал Каренин. Он согнул обсидиановую насадку, и кончик ее засветился глубоким красным светом. Стива отклонился на своем кресле назад.
— Да, пожалеть ее. Если бы ты ее видел, как я, — я провел всю зиму с нею, — ты бы сжалился над нею. Положение ее ужасно, именно ужасно.
— Мне казалось, — отвечал Алексей Александрович более тонким, почти визгливым голосом, — что Анна Аркадьевна имеет все то, чего она сама хотела. Я позволил им вернуться… позволил им беспрепятственно продолжать… — тут его голос изменился, вновь превратившись во все возрастающий гулкий рев.
И ВСЕ ЖЕ ОНИ ПРИСЛАЛИ ЭТОГО ЧЕРВЯКА, ЭТО КОРЧАЩЕЕСЯ ПОДОБИЕ ЧЕЛОВЕКА, ПРОСИТЬ О СНИСХОЖДЕНИИ! О ПРОЩЕНИИ!
Каренин откинул голову и засмеялся высоким, резким смехом.
ВОТ МОЙ ОТВЕТ. СКАЖИ ИМ, ЧТО ОНИ БУДУТ УНИЧТОЖЕНЫ. СКАЖИ ИМ, ЧТО Я ОБЛАДАЮ СИЛОЙ УБИТЬ ИХ, КОГДА МНЕ ЗАБЛАГОРАССУДИТСЯ, И ЭТО МОЕ НАМЕРЕНИЕ. СКАЖИ ИМ, ЧТО ОНИ МОГУТ БЕЖАТЬ, ЕСЛИ ЗАХОТЯТ, ПРЯТАТЬСЯ, ЕСЛИ СМОГУТ, НО Я ВСЕ РАВНО УНИЧТОЖУ ИХ.
— Ах, Алексей Александрович, ради бога, не будем делать рекриминаций! — ответил Стива несколько слабее.
Он бросил взгляд на дверь, решив, что нужно убраться, прежде чем разговор продолжиться; но ему действительно очень нужно было это место в комитете.
— Думаю, что время уже упущено, — сказал Каренин своим обычным, человеческим голосом. — А, замечательно! Прибыл гость. Левитский!
В комнату вновь вошел Солдатик, удерживая за дрожащий локоть маленького, полного человека с кипой рыжих кудрявых волос, покрытых смятой шляпой в английском стиле.
— Я… я…
— Человек, поклонись Царю.
Степан Аркадьич был снова поражен. Он никогда не слыхал за всю свою жизнь, чтобы кто-то использовал древнее, почтительное «Царь», и он также знал, что ни его отец, ни его дед не произносили его: этого не было с того момента, как начался Век Грозниума, и к власти пришло Министерство Робототехники и Государственного Управления.
Каренин принял непривычный титул как должное, сделав повелительное движение рукой, когда Левицкий поклонился ему.
— Алексей? — решился Облонский.
— Я думал, что дело это кончено. И считаю его оконченным, — ответил Алексей Александрович спокойно, но дверь в комнату с шумом распахнулась и тут же захлопнулась без чьей-либо помощи, а витраж в окне неожиданно взорвался, разлетевшись на тысячи мелких осколков.
— Но, ради бога, не горячись, — сказал Степан Аркадьич, дотрагиваясь до коленки зятя, но тут же одернул руку обратно, испугавшись металлического холода тела другого человека; но осталось ли в нем что-либо человеческое?
— Господин? Господин? — начал испуганный Левитский, но Солдатик быстро успокоил его ударом сапога в живот.
Алексей Александрович встал с кресла и поднял сияющий палец, словно бы рассматривая его в солнечном свете.
Облонский нервно сглотнул.
— Жизнь Анны Аркадьевны не может интересовать меня, — сказал вдруг Алексей Александрович, поднимая брови.
— Открой глаза! — гаркнул Солдатик на Левитского.
— Нет… пожалуйста…
— Открой!
— Теперь меня интересует только жизнь народа, — продолжил Каренин, пересекая комнату и приближаясь к Левитскому, в то время как Солдатик схватил его за подбородок, чтобы зафиксировать. — Моя цель — защитить народ. Вот мое видение проблемы.
Он поднял свой палец с красным кончиком к глазам журналиста, и Степан Аркадьич выбежал из комнаты.
Глава 11
Для того чтобы предпринять что-нибудь в семейной жизни, необходимы или совершенный раздор между супругами, или любовное согласие. Когда же отношения супругов неопределенны и нет ни того, ни другого, никакое дело не может быть предпринято.
Многие семьи годами остаются на старых местах, постылых обоим супругам, только потому, что нет ни полного раздора, ни согласия.
И Вронскому и Анне московская жизнь в жару и пыли была невыносима, когда весеннее солнышко сменилось ослепительным блеском лета — особенного для них этого лета с городскими улицами, заполненными пришельцами, которые осмелели настолько, что стали врываться в дома в поисках жертв.
В последнее время между Анной и Вронским не было согласия, и потому они продолжали жить в Москве в состоянии неопределенности, ожидая каждый день решения — будет ли им даровано прощение и разрешение на брак, или им откажут и подвергнут наказанию.
Ни тот, ни другой не высказывали причины своего раздражения, но они считали друг друга неправыми и при каждом предлоге старались доказать это друг другу.
Именно в это время для Анны вдруг стало очевидно, что Вронский переключил свое внимание на других женщин. Для нее весь он, со всеми его привычками, мыслями, желаниями, со всем его душевным и физическим складом, был одно — любовь к женщинам, и эта любовь, которая, по ее чувству, должна была быть вся сосредоточена на ней одной, любовь эта уменьшилась; следовательно, по ее рассуждению, он должен был часть любви перенести на других или на другую женщину, — и она ревновала. Она ревновала его не к какой-нибудь женщине, а к уменьшению его любви. Не имея еще предмета для ревности, она отыскивала его. По малейшему намеку она переносила свою ревность с одного предмета на другой. То она ревновала его к тем грубым женщинам, с которыми благодаря своим холостым связям он так легко мог войти в сношения; то она ревновала его к светским женщинам, с которыми он мог встретиться; то она ревновала его к воображаемой девушке, на которой он хотел, разорвав с ней связь, жениться.
И, ревнуя его, Анна негодовала на него и отыскивала во всем поводы к негодованию. Во всем, что было тяжелого в ее положении, она обвиняла его.
Мучительное состояние ожидания, которое она между небом и землей прожила в Москве, медленность и нерешительность Алексея Александровича, утрату Андроида Карениной — она все приписывала ему. Если б он любил, он понимал бы всю тяжесть ее положения и вывел бы ее из него. В том, что она жила в Москве, а не в деревне, он же был виноват. Он не мог жить, зарывшись в деревне, как она того хотела. Ему необходимо было общество, и он поставил ее в это ужасное положение, тяжесть которого он не хотел понимать. И опять он же был виноват в том, что она навеки разлучена с сыном и роботом-компаньоном, по которому с каждым днем тосковала все больше и больше. Она просыпалась от ночных кошмаров, в которых Андроид Каренина грустно пела для нее печальные песни о любви и предательстве. Прогуливаясь по комнате с холодным потом, сбегавшим по ее спине, Анна убеждала себя, что у робота не было Речесинтезатора, и потому он не мог петь, и даже больше — у него не было сердца, чтобы любить и быть любимым.
Но и те редкие минуты нежности, которые наступали между ними, не успокаивали ее: в нежности его теперь она видела оттенок спокойствия, уверенности, которых не было прежде и которые раздражали ее.
Были уже сумерки. Анна одна, ожидая его возвращения с холостого обеда, на который он поехал, ходила взад и вперед по его кабинету (комната, где менее был слышен шум мостовой) и во всех подробностях передумывала выражения вчерашней ссоры.
Все началось с того, что Вронский решил взять в дом в качестве слуги бестолкового холостого мужика по имени Петр. Казалось, Анна осталась последней в обществе, кто по-прежнему презирал саму мысль о том, чтобы привлекать людей для выполнения работы бытовых роботов II класса: подавать еду и напитки, убирать и стирать, открывать дверь и объявлять имена прибывших гостей. Для Анны было что-то ужасное в идее прислуживания людей людям, словно бы они были роботами. Вронский же находил это нововведение очаровательным и придерживался мнения, что это чрезвычайно приятно иметь в доме существо из плоти и крови, которое надрезало бы сигары и стригло усы хозяину, обеспечивая тем самым petite-liberte, о которой говорил Облонский в кабинете Каренина.
— Что ж, хорошо, но если твои маленькие свободы достигаются только угнетением другого человека, то что же это будет за свобода? — спросила Анна угрюмо, когда Петр шаркающей походкой вышел из комнаты, унося пустой поднос для напитков.
![Айзек Азимов - Робот, который видел сны [Сны роботов]](/uploads/posts/books/56487/56487.jpg)