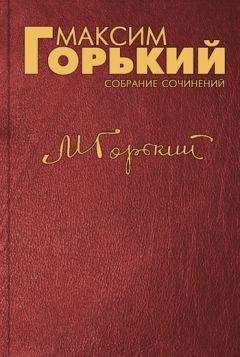Максим Горький - Жизнь Матвея Кожемякина
- Спасибо, парень!
Толпа зашумела, качнулась к стене, где над нею возвышалось разрезанное лицо, с круглыми, слепо открытыми глазами, но вдруг раздался резкий, высокий голос Сухобаева:
- Господа обыватели! И вы, господа начальство, - что же видим все мы? Являются к нам неизвестные люди и говорят всё, что им хочется, возмущая умы, тогда как ещё никто ничего не знает...
- Вы, известные-то, воры все!
- Что-с?
- То-с!
- То есть как?
- Так!
И всё завертелось, закипело, заорало, оглушая, толкая и давя Кожемякина; он, не понимая, что творится вокруг, старался зачем-то пробиться к стене, где стоял оратор, теперь видимый.
- Это моё помещение! - визгливо выкрикивал Сухобаев.
Трещали столы и стулья, разбивалась посуда, хрустели черепки, кто-то пронзительно свистел, кто-то схватил Кожемякина за ворот, прищемив и бороду, тащил его и орал:
- Вот они - глядите! Во-от они-и!
- Стой! - хрипел старик, отбиваясь.
В густом потоке людей они оба скатились с лестницы на площадь перед крыльцом, Кожемякина вырвали из рук сапожника, он взошёл на ступени, захлёбываясь от волнения и усталости, обернулся к людям и сквозь шум в ушах услышал чьи-то крики:
- За что ты его, чёрт?
Чей-то голос торопливо и громко говорил:
- Чернокнижником считается, это - которого Сухобаев обделал...
- Имущество же он всё своё на училище отдал, городу!
Широкорожий парень схватил руку Кожемякина, встряхивал и бормотал:
- Ошибся он, дурашка!
Подошли Посулов, Прачкин, Тиунов, но Кожемякин, размахнув руками, крикнул вниз, в лица людей:
- Стойте! Это ничего! Если человек обижен - ему легко ошибиться...
Хотелось встать на колени, чтобы стоять прочнее и твёрже, он схватился обеими руками за колонку крыльца и вдруг, точно вспыхнув изнутри, закричал:
- Братцы! Горожане! Приходят к нам молодые люди, юноши, чистые сердцем, будто ангелы приходят и говорят доброе, неслыханное, неведомое нам - истинное божье говорят, и - надо слушать их: они вечное чувствуют, истинное - богово! Надо слушать их тихо, во внимании, с открытыми сердцами, пусть они не известны нам, они ведь потому не известны, что хорошего хотят, добро несут в сердцах, добро, неведомое нам...
- Верно, старик! - крикнули снизу.
- Прожили мы жизнь, как во сне, ничего не сделав ни себе, ни людям, вступают на наше место юноши...
Он размашисто перекрестился.
- Дай господи не жить им так, как мы жили, не изведать того горя, кое нас съело, дай господи открыть им верные пути к добру - вот чего пожелаем...
Крыльцо пошатнулось под ним и быстро пошло вниз, а всё на земле приподнялось и с шумом рухнуло на грудь ему, опрокинув его.
Потом он очутился у себя дома на постели, комната была до боли ярко освещена, а окна бархатисто чернели; опираясь боком на лежанку, изогнулся, точно изломанный, чахоточный певчий; мимо него шагал, сунув руки в карманы, щеголеватый, худенький человек, с острым насмешливым лицом; у стола сидела Люба и, улыбаясь, говорила ему:
- Я вам не верю.
Худенький человек, вынув часы, переспросил, глядя на них:
- Не верите?
- Нет.
Он хлопнул крышкой часов и сказал не торопясь:
- Это меня - огорчает. А в аптеку послали?
Не сводя с него глаз, Люба кивнула головой, и он снова начал шагать, манерно вытягивая ноги.
Певчий выпрямился, тоже сунул руки в карманы, обиженно спросив:
- Почему же вы так думаете, доктор?
- Так мне удобнее, - ответил тот, глядя в пол. Кожемякин не шевелился, глядя на людей сквозь ресницы и не желая видеть чёрные квадраты окон.
"Опять я захворал", - думал он, прислушиваясь к торопливому трепету сердца, ощущая тяжёлую, угнетающую вялость во всём теле, даже в пальцах рук.
- Захворал я, Люба? - спросил он полным голосом, чётко и ясно, но, к его удивлению, она не слышала, не отозвалась; это испугало его, он застонал, тогда она вскочила, бросилась к нему, а доктор подошёл не торопясь, не изменяя шага и этим сразу стал неприятен больному.
- Что? - спрашивала Люба, приложив ухо к его губам.
- Позвольте! - отстранил её доктор, снова вынув часы, и сложил губы так, точно собирался засвистать. Лицо у него было жёлтое, с тонкими тёмными усиками под большим, с горбиной, носом, глаза зеленоватые, а бритые щёки и подбородок - синие; его чёрная, гладкая и круглая голова казалась зловещей и безжалостной.
- Так, -- сказал он, с обидной осторожностью опуская на постель руку Кожемякина. - Извините - мадемуазель...
- Матушкина.
- Мне всё хочется сказать - Батюшкова, - эта фамилия встречается чаще. Вы ничего не забудете?
- Нет.
- До завтра!
Люба говорила несвойственно ей кратко и громко, а доктор раздражающе сухо, точно слова его были цифрами. Когда доктор ушёл, Кожемякин открыл глаза, хотел вздохнуть и - не мог, что-то мешало в груди, остро покалывая.
Люба, сидя у постели, гладила руку больного.
Собравшись с силами, Кожемякин спросил:
- Умираю, что ли?
- Ой, нет! - вздрогнув и отбрасывая его руку, воскликнула девушка. Что вы?
- Сердце у вас слабое, - тихо сказал певчий, -вот и всё!
- Вам ничего не надо делать, - добавила Люба. Кожемякин через силу ухмыльнулся.
- Я ничего и не делал никогда...
Потолок плыл, стены качались, от этого кружилась голова, и он снова закрыл глаза. Было тихо, и хотелось слышать что-нибудь, хоть бы стук маятника, но часы давно остановились. Наконец певчий спросил:
- Не понравился он вам?
- Нет. Вы - тише!
"Зачем?" - хотел крикнуть Кожемякин, но промолчал, боясь, что они всё-таки не станут говорить и, напрягая слух, ловил слова, едва колебавшие тишину.
- Теперь, - шептал юноша, - когда люди вынесли на площади, на улицы привычные муки свои и всю тяжесть, - теперь, конечно, у всех другие глаза будут! Главное - узнать друг друга, сознаться в том, что такая жизнь никому не сладка. Будет уж притворяться - "мне, слава богу, хорошо!" Стыдиться нечего, надо сказать, что всем плохо, всё плохо...
Явился Тиунов и тоже шептал:
- Я говорю - отечество, Россия! Дорогие мои - собор строить разрешено, а вы опять - бойню...
Люба утешала его тихими словами, белки её глаз стали отчего-то светлей, а зрачки потемнели, она держалась в доме, как хозяйка, Шакир особенно ласково кивал ей головой, и это было приятно Кожемякину тягостная вялость оставляла его, сердце работало увереннее.
На другой день с утра явился Сухобаев, он смотрел на Кожемякина, точно мерку на память снимал с него, и ворчал:
- Это не более, как всеобщая куриная слепота-с!
Пришёл Ваня Хряпов, хмуро объявил, что дедушка его тоже сильно захворал, и Люба, тревожно побегав по комнате, исчезла.
"Милая, - мысленно проводил её Кожемякин, - радость человеческая!"
Дни пошли крупным шагом, шумно, беспокойно, обещая что-то хорошее. Каждый день больной видел Прачкина, Тиунова, какие-то люди собирались в Палагиной комнате и оживлённо шумели там - дом стал похож на пчелиный улей, где Люба была маткой: она всех слушала, всем улыбалась, поила чаем, чинила изорванное пальто Прачкина, поддёвку Тиунова и, подбегая к больному, спрашивала:
- Ну, что - лучше?
- Лучше! - отзывался он.
Он чувствовал себя здоровым, но доктор запретил вставать. При докторе девушка странно и явно менялась: ходила как-то по-солдатски мерно и прямо, выпячивая грудь, поджав губы, следя за ним недобрыми глазами, а на вопросы его отвечала кратко, и казалось, что, говоря ему - да, она спорит с ним. Кожемякин тоже не спускал глаз с доктора, глядя на него угрюмо, недоброжелательно, и, когда он уходил, - ещё в комнате надевая на затылок и на правое ухо мягкую шляпу, - больной облегчённо вздыхал. Было странно, что обо всём, что творилось в городе, доктор почти не говорил, а когда его спрашивали о чём-нибудь, он отвечал так неохотно и коротко, точно язык его брезговал словами, которые произносил. На его жёлтом лице не отражалось ни радости, ни любопытства, ни страха, ничего - чем жили люди в эти дни; глаза смотрели скучно и рассеянно, руки касались вещей осторожно, брезгливо; все при нём как будто вдруг уставали, и невольно грустно думалось, глядя на него, что, пока есть такой человек, при нём ничего хорошего не может быть.
"Как бы он не соблазнил Любовь-то, - тревожно думалось Кожемякину. Господи - помилуй её!"
Однажды он проснулся рано утром и, чувствуя себя почти здоровым, оделся, а потом разбудил Шакира и попросил его:
- Веди, князь, до кресла! Разучился я ходить.
Взяв его под руку, Шакир вёл и радостно бормотал, мигая глазами:
- Пошла, ну! Опять теперь беспокойства-та начинался...
Кожемякин сел, взглянул на деревья, перекрестился.
- Ну, давай, Шакирушка, поцелуемся!
Татарин, всхлипнув, припал к нему.
- Ничего! - утешительно говорил Кожемякин, поглаживая его шерстяную щёку. - Ещё поживём немножко, бог даст! Ой, как я рад, что встал...
- Ему тебя нада давать много дня ласковый-та! - бормотал Шакир, как всегда, в волнении, ещё более усердно коверкая слова. - Доброму человека бог нада благдарить - много ли у него добрым-та?