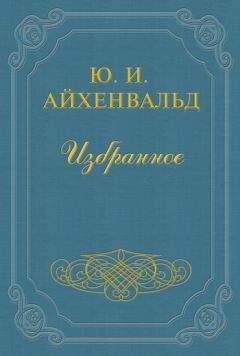Алексей Писемский - Тысяча душ
– Ну, черт тут в деньгах! Сочтемся! – перебил князь.
– Разумеется, – подтвердил его собеседник, а потом, как бы сам с собой, принялся рассуждать печальным тоном: – Как бы, кажется, царь небесный помог низвергнуть этого человека, так бы не пожалел новую ризу, из золота кованную, сделать на нашу владычицу божью матерь, хранительницу града сего.
– Именно, – подхватил князь. – Так так, значит, – заключил он, видимо, желая поскорее выпроводить своего собеседника.
– Да уж так покуда будет!.. Начнем хлопотать, – отвечал тот. – Посошок, однако, на дорожку позвольте взять, – прибавил он, наливая и выпивая рюмку водки.
– Сделайте одолжение, – отвечал князь, скрывая гримасу и с заметно неприятным чувством пожимая протянутую ему Медиокритским руку, который, раскланявшись, вышел тихой и кроткой походкой.
Присутствие духа, одушевлявшее, как мы видели, все это время князя, вдруг оставило его совершенно. Бросившись на диван, он вздохнул всей грудью и простонал: «О, тяжело! Тяжело!»
Тяжело, признаться сказать, было и мне, смиренному рассказчику, довесть до конца эту сцену, и я с полной радостью и любовью обращаю умственное око в грядущую перспективу событий, где мелькнет хоть ненадолго для моего героя, в его суровой жизни, такое полное, искреннее и молодое счастье!
X
У театрального подъезда горели два фонаря. Как рыцарь, вооруженный с головы до ног, сидел жандарм на лошади, употребляя все свои умственные способности на то, чтоб лошадь под ним не шевелилась и стояла смирно. Другой жандарм, побрякивая саблей, ходил пеший. Хожалый, в кивере и с палочкой, тоже ходил, перебраниваясь с предводительским форейтором.
– Что мотаешься, дылда? – говорил он.
– А ты что лаешься? – отвечал форейтор.
– Еще бы те не лаяться, коли порядку не знаешь, черт этакой!
– Сам черт! Дьяволы экие, право! – продолжал форейтор, осаживая лошадей.
– Ну да, дьяволы! Поговори еще у меня! – ответил хожалый и отступился.
Толстый кучер советника питейного отделения, по правам своего барина, выпив даром в ближайшем кабаке водки, спал на пролетке. Худощавая лошадь директора гимназии, скромно питаемая пансионским овсом, вдруг почему-то вздумала молодцевато порыть землю ногою и тем ужасно рассмешила длинновязого дуралея, асессорского кучера.
– Глянь-ко, глянь, как лапы выкидывает!.. Штукарка же она, паря, у тебя! – сказал он директорскому кучеру.
– Какая тут штукарка? Так лошадь-леший, пустая! – ответил тот.
– Леший?
– Леший! – подтвердил директорский кучер, и затем более замечательного у подъезда ничего не было; но во всяком случае вся губернская публика, так долго скучавшая, была на этот раз в сборе, ожидая видеть превосходную, говорят, актрису Минаеву в роли Эйлалии, которую она должна была играть в известной печальной драме Коцебу[130] «Ненависть к людям и раскаяние». Трагик, говорят, тоже был очень хороший и с душой. Зала театра по случаю торжественного спектакля была освещена в два ряда. Занавес, изображающий городскую площадь, таинственно колебался, и сквозь обычную на средине его дырочку показывался по временам любопытствующий человеческий глаз. Кресла были полнехоньки мужчинами, между которыми лоснилось и блестело довольное число, как ладонь, гладких, плешивых голов, и очень рельефно рисовалась молодцеватая фигура председателя казенной палаты, который стоял в первом ряду, небрежно опершись на перегородку, отделявшую музыкантов. Инженерный поручик, прекрасно играющий на фортепьяно, был также в первом ряду и не без эффекта кутался в шинель с бобровым воротником. В третьем или четвертом ряду сидел толстый магистр. Отпускной мичман беспрестанно глядел, прищурившись, в свой бинокль и с таким выражением обводил его по всем ложам, что, видимо, хотел заявить эту прекрасную вещь глупой провинциальной публике, которая, по его мнению, таких биноклей и не видывала; но, как бы ради смирения его гордости, тут же сидевший с ним рядом жирный и сильно потевший Михайло Трофимов Папушкин, заплативший, между прочим, за кресло пятьдесят целковых, вдруг вытащил, не умея даже хорошенько в руках держать, свой бинокль огромной величины и рублей в семьдесят, вероятно, ценою. Мичман был уничтожен! Бельэтаж в свою очередь блестел дамами, из которых многие, несмотря на явную опасность простудиться, приехали декольте. Большая часть из них имела при себе детей, из которых иные начали уж реветь. Одна только ложа в этом случае представляла исключение и была сравнительно с другими пустынна. В ней помещался один-одинехонек повеса Козленев. Он, по его словам, нарочно взял ложу, чтоб иметь возможность падать в обморок в раздирательных сценах драмы. Семь часов, наконец, пробило. В залу вошел торопливо, с озабоченным лицом, полицеймейстер, прямо подошел к председателю казенной палаты и шепнул ему что-то на ухо. Тот побледнел. Едва полицеймейстер успел оборотиться в другую сторону, как к нему адресовался инженерный поручик.
– Что такое? Не случилось ли чего-нибудь?
– Губернатор новый у нас; старик в отставку вышел, – отвечал полицеймейстер.
– По своему желанию?
– Какое по желанию… велели!
– Кто ж на его место будет? – спросил поручик с заметным уж беспокойством.
– Да вряд ли не вице-губернатор, – отвечал полицеймейстер.
У инженера окончательно лицо вытянулось.
– Это черт знает, как человека выводят!.. – невольно воскликнул он, но потом тотчас же опомнился. – А что, в театре он будет? – прибавил он, взглянув на губернаторскую ложу, где так еще недавно сидела его милая и обязательная покровительница губернаторша; но теперь там было пусто, и никогда уж она там не будет сидеть. Молодому инженеру сделалось не на шутку грустно: тут только он понял, что любил эту женщину. Полицеймейстер между тем прошел в другие ряды и стремился к магистру, желая, вероятно, на всякий случай заискать в нем, так как тот заметно начинал становиться любимцем вице-губернатора. Наклонившись к нему, он шепнул:
– Губернатор сменен, и вице-губернатор на место его назначается.
– Пора, наконец! – воскликнул магистр. – И отлично будет: этот славный человек! – прибавил он.
Полицеймейстер ничего на это не сказал и переглянулся с Папушкиным.
– Так ли, как мне в Питере говорили? – спросил тот.
– Так, так, – отвечал полицеймейстер. Папушкин вздохнул.
– Эх-ма! – проговорил он и задумался.
В бельэтаже тоже очень невдолге распространилась эта новость.
Встревоженный председатель казенной палаты сейчас же прошел в ложу к своему семейству и сказал на ухо жене. Та отвечала ему значительным взглядом своих больших и очень еще недурных голубых глаз. Она, с одной стороны, испугалась за мужа, который пользовался дружбой прежнего губернатора, а с этим был только что не враг, но с другой – глубоко обрадовалась в душе, что эта длинновязая губернаторша будет, наконец, сведена с своего престола. Сидевшая с ней рядом председательша уголовной палаты сейчас же поинтересовалась узнать, что такое сказал ей генерал?
– Губернатор сменен, и вице-губернатор будет вместо его, – отвечала председательша казенной палаты, сколь возможно, по важности предмета, спокойным тоном.
Председательша уголовной палаты поступила совершенно иначе. Кто знает дело, тот поймет, конечно, что даму эту, по независимости положения ее мужа, менее, чем кого-либо, должно было беспокоить, кто бы ни был губернатор; но, быв от природы женщиной нервной, она вообще тревожилась и волновалась при каждой перемене сильных лиц, и потому это известие приняла как-то уж очень близко к сердцу.
– Ах, боже мой! Скажите! Боже мой! – начала она восклицать вслух, двигаясь на кресле, так что сидевшая с ней дочь, девушка лет семнадцати, покраснела за нее.
– Мамаша, не говорите так громко! Все смотрят, – сказала она; но председательша не унималась.
– Ах, боже мой, боже мой! – продолжала она стонать и шевелиться.
Впрочем, надобно сказать, что и вся публика, если и не так явно, то в душе ахала и охала. Превосходную актрису, которую предстояло видеть, все почти забыли, и все ожидали, когда и как появится новый кумир, к которому устремлены были теперь все помыслы. Полицейский хожалый первый завидел двух рыжих вице-губернаторских рысаков и, с остервенением бросившись на подъехавшего в это время к подъезду с купцом извозчика, начал его лупить палкой по голове и по роже, говоря:
– Убирайся, шваль этакая! Не видишь, кто едет?
– Позвольте, почтеннейший, что ж такое? Мы сами только что подъехали, – начал было возражать купец.
– Убирайся! – крикнул хожалый и с неистовством оттащил лошадь извозчика в сторону. Вице-губернатор подъехал. Скромно и несколько сгорбившись, вошел он в сени. Довольно почтенной наружности частный пристав, имевший собственно тут свой пост и только было сбиравшийся выкурить папироску, презентованную ему вместе с рюмкой водки содержателем буфета, при виде управляющего губернией побледнел и бросил папироску на пол. Перед ложей губернатора Калиновича встретил сам полицеймейстер и хотел было отворить в нее дверь, но вице-губернатор отрицательно мотнул головой и прошел в кресла. Появление его в зале сопровождалось полным эффектом. Все взоры направились на него, и все как бы приняло несколько официальный вид. Председатель казенной палаты всеми силами души желал, чтобы он заговорил с ним первым. Один из любимых писцов старого губернатора нарочно перебежал с своего места на другое, чтоб попасть на глаза вице-губернатору, и когда попал, то поклонился ему в пояс. Даже ленивый магистр привстал и кивнул Калиновичу головой с значительной улыбкой. Он отвечал ему тоже улыбкой. Инженерный поручик, еще за минуту перед тем так неосторожно про него сказавший, отдал теперь почтительный поклон, приложив руку по форме ко лбу. Прекрасный пол – и тот, в настоящем случае, снова доказал старую истину, что ничто в глазах его не поднимает так мужчину, как публичный и официальный успех. Даже m-me Потвинова, которая, как известно, любит только молоденьких молодых людей, так что по этой страсти она жила в Петербурге и брала к себе каждое воскресенье человек по пяти кадет, – и та при появлении столь молодого еще начальника губернии спустила будто невзначай с левого плеча мантилью и таким образом обнаружила полную шею, которою она, предпочтительно перед всеми своими другими женскими достоинствами, гордилась. Но еще с большим волнением забилось сердце у пожилой девственницы, родной сестры управляющего палатой государственных имуществ. В начале этой части она была влюблена в приезжавшего по набору флигель-адъютанта, а потом тайно влюбилась в вице-губернатора и в своей полусумасшедшей экзальтации безусловно оправдывала все его действия, к величайшему неудовольствию своего брата. На сцене тоже засуетились. Содержатель, смотревший в дырочку занавеса, когда Калинович сел на свое место, хлопнул что есть силы в ладони – и музыканты заиграли, а вскоре и занавес поднялся. Театр представлял сельский вид с бедной хижиной. Актер, игравший роль глупого сына управителя, только что не кувыркался, стараясь смешить публику, – однако никто не смеялся. Вышел потом Неизвестный, в высочайших воротничках и повесив голову. Первому трагику захлопали. С притворною злобою стал говорить он о ненавистных ему людях с своим лакеем, которого играл задушевнейшим образом Михеич, особенно когда ему надобно было говорить о г-же Миллер; но трагик с мрачным спокойствием выслушивал все рассказы о ее благодеяниях старому нищему, которому, в свою очередь, дав тайно денег на выкуп сына, торжественно ушел. Ему опять похлопали. Декорация потом переменилась и представила комнату в замке. Вошла Настенька, в роли несчастной Эйлалии, скрывавшейся под именем г-жи Миллер. Мужчины в креслах сейчас же захлопали; дамы с любопытством уставили на нее лорнеты; Козленев аплодировал как сумасшедший. Любимый писец старого губернатора, гораздо более занятый созерцанием своего нового начальника, чем пьесой, заметил, что у вице-губернатора задрожала голова. Настенька тоже была сконфужена: едва владея собой, начала она говорить довольно тихо и просто, но, помимо слов, в звуках ее голоса, в задумчивой позе, в этой тонкой игре лица чувствовалась какая-то глубокая затаенная тоска, сдержанные страдания, так что все смолкло и притаило дыхание, и только в конце монолога, когда она, с грустной улыбкой и взглянув на Калиновича, произнесла: «Хотя на свете одни только глаза, которых я должна страшиться», публика не вытерпела и разразилась аплодисментом. Козленев, вовсе уж не шутя и не стесняясь тем, что сидел в ложе, стучал руками и ногами. Даже председатель казенной палаты, забыв мысль о новом губернаторе, проговорил почти вслух: «Хорошо, очень хорошо!», а любимый губернаторский писец опять заметил, что на глазах вице-губернатора, молчавшего и не хлопавшего, заискрились слезы. Словом, сколько публика ни была грубовата, как ни мало эстетически развита, но душа взяла свое, и когда упал занавес, все остались как бы ошеломленные под влиянием совершенно нового и неиспытанного впечатления, не понимая даже хорошенько, что это такое. В первый еще раз на театральных подмостках стояла перед ними не актриса, а женщина, с такой правдой страдающая, что, пожалуй, не встретишь того и в жизни, где, как известно, очень много притворщиц. Во втором действии артистка еще более поразила своих зрителей. Как светская женщина, говорила она с майором, скромно старалась уклониться от благодарности старика-нищего; встретила, наконец, своих господ, графа и графиню, хлопотала, когда граф упал в воду; но в то же время каждый, не выключая, я думаю, вон этого сиволапого мужика, свесившего из райка свою рыжую бороду, – каждый чувствовал, как все это тяжело было ей. Все почти молодые женщины ясней поняли, что и они, по большей части, осуждены так же притворяться – поняли это и потихоньку отирали слезы. Экзальтированная сестра управляющего палатою государственных имуществ, откинувшись на задок кресла, произнесла: