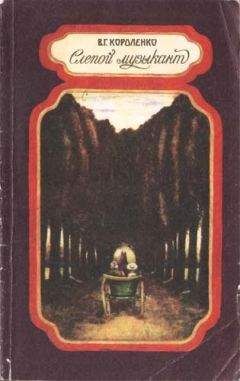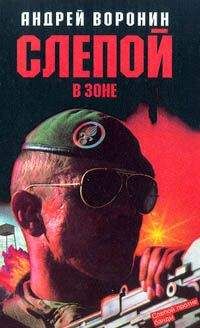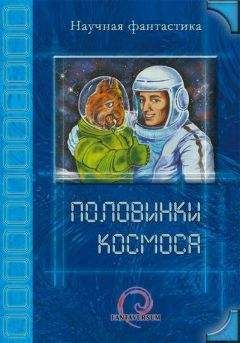Владимир Короленко - Том 1. Рассказы и очерки
Мне вспомнилась пророческая вражда Степана и его отзыв о хитрости работника. А между тем я и теперь был уверен, что роль Тимохи была, как всегда, пассивная: наверное, Маруся просто женила его на себе… Изломанная, смятая какой-то бурей, она стремилась восстановить в себе женщину и хозяйку. Для этого ей нужно было ее хозяйство, весь этот уголок. Для хозяйства нужен хозяин. Все это — лишь внешняя оболочка, в которую, как улитка, пряталась больная женская душа…
А впрочем… Кто знает? Иногда мне вспоминалось время, проведенное нами на заимке, рассказ Тимофея, горящие глаза Маруси и почти страдальческое участие ее к этому рассказу. И мне приходило в голову, что, быть может, в ней, стремившейся восстановить в себе крестьянку, этот Тимоха, так полно сохранивший в себе все особенности пахаря, — мог задеть и другие сердечные струны…
Все это, однако, показалось мне слишком туманным и сложным, чтобы делиться этими соображениями с заседателем Федосеевым.
Недавно я получил из тех мест длинное письмо. Моя знакомая отвечала подробно на мои вопросы о местах и людях.
«…О Степане мне трудно было узнать что-нибудь. О нем все как-то забыли. Марья же (по мужу Захарова) живет на Дальней заимке. Это место пользуется некоторой известностью, и начальство охотно поселяет там русских, на которых можно рассчитывать, как на земледельцев. Пожалуй, что это начало будущего значительного поселения. У Марьи два сына, один — подросток, отличный работник. Оба говорят по-малорусски лучше, чем по-русски. Тимофей тоже хороший работник, но, по общему мнению, настоящая хозяйка — Марья. Впрочем, она выказывает ему наружные знаки почтения. Иногда он напивается и под пьяную руку поколачивает ее. Она охотно рассказывает об этом, как будто гордится побоями „своего мужика“, или, как она называет, „чоловiка“… В смехе Маруси ничего особенного не заметно… Вообще она, по-видимому, человек вполне нормальный».
«Выпрямилась», — подумал я по прочтении этого письма. Мне опять вспомнилась молодая искалеченная лиственница… Даже эти побои… Вероятно, Марье приходит при этом в голову, что, — не будь всего того, что вырвало ее из родной среды, — какой-нибудь «чоловiк Тимiш» где-нибудь в своей губернии так же напивался бы, так же куражился, так же поколачивал бы ее в родной деревне… На то он «чоловiк», свой, родной, «законный».
У всякого свои понятия о счастье…
Во времена моей юности один товарищ рассказал мне следующую историю. Как-то, лишившись уроков, он дошел до крайней нужды и не ел почти два дня. В это время ему предложили работу. Он вяло шел по улицам на приглашение и думал, что вряд ли в силах будет исполнить заказ. Вот если бы задаток!.. Хоть рубль… именно рубль!.. И вдруг в его воображении с необыкновенной яркостью нарисовалась желтенькая бумажка. С этим заманчивым образом в уме он слушал объяснение заказчика. В заключение тот сам предложил задаток и протянул… десять рублей. Студент вяло посмотрел на бумажку. Это было не то, что ему нужно.
— Рупь… — сказал он с выражением тупой жадности в голосе.
— Но позвольте…
— Рупь, рупь, рупь, — повторял он настойчиво. Заказчик пожал плечами, студент получил желаемое. И в эту минуту он был счастлив…
Маруся тоже отвоевала у судьбы свой рубль и — значит, тоже счастлива.
Известия эти доставили мне чувство некоторого удовлетворения: героические усилия молодого надломленного существа не пропали даром. Но когда я гляжу теперь на несколько пожелтевших листочков, на которых я тогда набросал в коротких чертах рассказ Степана, — сердце у меня сжимается невольным сочувствием. И сквозь благополучие Дальней заимки хочется заглянуть в безвестную судьбу беспокойного, неудовлетворившегося, может быть, давно уже погибшего человека…
1899
Огоньки
Как-то давно, темным осенним вечером, случилось мне плыть по угрюмой сибирской реке. Вдруг на повороте реки, впереди, под темными горами мелькнул огонек.
Мелькнул ярко, сильно, совсем близко…
— Ну, слава богу! — сказал я с радостью, — близко ночлег!
Гребец повернулся, посмотрел через плечо на огонь и опять апатично налег на весла.
— Далече!
Я не поверил: огонек так и стоял, выступая вперед из неопределенной тьмы. Но гребец был прав: оказалось, действительно, далеко.
Свойство этих ночных огней — приближаться, побеждая тьму, и сверкать, и обещать, и манить своею близостью. Кажется, вот-вот еще два-три удара веслом, — и путь кончен… А между тем — далеко!..
И долго мы еще плыли по темной, как чернила, реке. Ущелья и скалы выплывали, надвигались и уплывали, оставаясь назади и теряясь, казалось, в бесконечной дали, а огонек все стоял впереди, переливаясь и маня, — все так же близко, и все так же далеко…
Мне часто вспоминается теперь и эта темная река, затененная скалистыми горами, и этот живой огонек. Много огней и раньше и после манили не одного меня своею близостью. Но жизнь течет все в тех же угрюмых берегах, а огни еще далеко. И опять приходится налегать на весла…
Но все-таки… все-таки впереди — огни!..
1900
Последний луч
Нюйский станок расположен на небольшой полянке, на берегу Лены. Несколько убогих избушек задами прижимаются к отвесным скалам, как бы пятясь от сердитой реки. Лена в этом месте узка, необыкновенно быстра и очень угрюма. Подошвы гор противоположного берега стоят в воде, и здесь больше, чем где-либо, Лена заслуживает свое название «Проклятой щели». Действительно, это как будто гигантская трещина, по дну которой клубится темная река, обставленная угрюмыми скалами, обрывами, ущельями. В ней надолго останавливаются туманы, стоит холодная сырость и почти непрерывные сумерки. Население этого станка даже среди остальных приленских жителей поражает своею вялостью, худосочием и безнадежной апатией. Унылый гул лиственниц на горных хребтах составляет вечный аккомпанемент к этому печальному существованию…
Приехав на этот станок ночью, усталый и озябший, я проснулся утром, по-видимому, довольно рано.
Было тихо. В окна глядел не то тусклый рассвет, не то поздний вечер, — что-то заполненное бесформенной и сумеречной мглой. Ветер дул в «щели», как в трубе, и гнал по ней ночные туманы. Взглянув из окна кверху, я мог видеть клочки ясного неба. Значит, на всем свете зарождалось уже яркое солнечное утро. А мимо станка все продолжала нестись, клубами, холодная мгла… Было сумрачно, тихо, серо и печально.
В избушке, где я ночевал, на столе горела еще простая керосиновая лампочка, примешивая к сумеркам комнаты свой убогий желтоватый свет. Комната была довольно чистая, деревянные перегородки, отделявшие спальню, были оклеены газетной бумагой. В переднем углу, около божницы, густо пестрели картинки из иллюстраций, — главным образом портреты генералов. Один из них был Муравьев-Амурский, большой и в регалиях, а рядом еще вчера я разглядел два небольших, скромных портрета декабристов.
Лежа на своей постели, я мог видеть из-за перегородки стол с лампой у противоположной стены. За столом сидел старик с довольно красивым, но бледным лицом. Борода у него была серая, с ровной густой сединой, высокий обнаженный лоб отливал желтизной воска, редкие на темени волосы — сзади были длинны и слегка волнисты. В общем фигура напоминала духовного, даже, пожалуй, одного из евангелистов, но цвет лица был неприятно бледный и нездоровый, глаза мне казались тусклыми. На шее виднелись, как опухоль, признаки зоба, — болезнь, очень распространенная на Лене, которую приписывают ленской воде.
Рядом с ним сидел мальчик лет около восьми. Мне была видна только его наклоненная голова, с тонкими, как лен, белокурыми волосами. Старик, щуря сквозь очки свои подслеповатые глаза, водил указкой по странице лежавшей на столе книги, а мальчик с напряженным вниманием читал по складам. Когда ему не удавалось, старик поправлял его с ласковым терпением.
— Люди-он… ло… веди-есть, и краткое…
Мальчик остановился. Незнакомое слово, очевидно, не давалось… Старик сощурился и помог:
— Соловей, — прочел он.
— Соловей, — добросовестно повторил ученик и, подняв недоумевающие глаза на учителя, спросил: — Со-ло-вей… Что такое?
— Птица, — сказал старик.
— Птица… — И он продолжал чтение. — «Слово-иже, си, добро-ять-люди, дел… Соловей си-дел… на че… на че-ре… на че-ре-му-хе…»
— Что такое? — опять вопросительно прозвучал, как будто деревянный, безучастный голос ребенка.
— На черемухе. Черемуха, стало быть, дерево. Он и сидел.
— Сидел… Зачем сидел?.. Большая птица?
— Махонькая, поет хорошо.
— Поет хорошо…
Мальчик перестал читать и задумался. В избушке стало совсем тихо. Стучал маятник, за окном плыли туманы… Клок неба вверху приводил на память яркий день где-то в других местах, где весной поют соловьи на черемухах… «Что это за жалкое детство! — думал я невольно под однотонные звуки этого детского голоска. — Без соловьев, без цветущей весны… Только вода да камень, заграждающий взгляду простор божьего мира. Из птиц — чуть ли не одна ворона, по склонам — скучная лиственница да изредка сосна…»