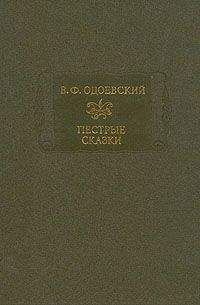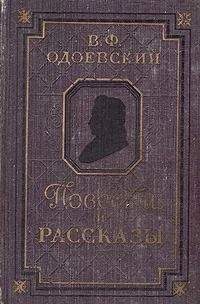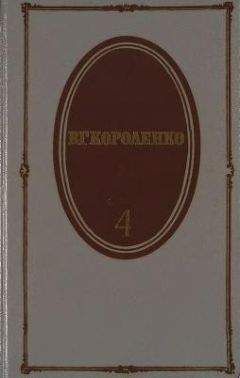Владимир Одоевский - Записки для моего праправнука (сборник)
Как в этом контракте разъяснено неопределенное выражение: «ремонтное содержание» или «содержание в исправности»?
Поставлено ли в обязанность подрядчику озаботиться о том, чтобы по бульвару можно было ходить, не ломая себе ни рук, ни ног?
Предвидены ли случаи, столь нередкие в нашем климате, внезапной оттепели и затем внезапного мороза?
К чему обязывается бульварный подрядчик в таких случаях, столь важных для безопасности Московских жителей?
Чему подвергается бульварный подрядчик за неисполнение этой важной статьи договора?
Кто надзирает за тем, чтобы подрядчик исполнял свой договор, не для проформы только, а на самом деле?
Случалось кому из Московских жителей видеть такого надзирателя от городских властей, который бы сам приходил на бульвар и, потребовав к себе подрядчика, указал бы ему в натуре те бедовые и непростительные неисправности, для поддержания которых употребляется значительная городская сумма?
Все это покрыто мраком неизвестности и, как кажется, образует канцелярскую тайну добрых старых времен, когда было все шито и крыто и для подрядчика сыто. Какие о всем этом доходят сведения до горожан, платящих деньги для безопасности своих ног и рук — нам неизвестно. Иногда несчастный пешеход, попавший на бульвар, как в западню, и поскользаясь на каждом шагу, обращает печальный взор к хожалым, порою появляющимся на бульварах, — напрасно! Сами хожалые, с глубокой меланхолиею, смотрят на бесполезное движение метел и ждут, авось не посыплется ли, — не песок, разумеется, — а хоть снежок, и поступит в должность подрядчика? Где корень этого неимоверного беспорядка и потешения над платящей публикой? Вопрос, если угодно, также нескромный, но однако ж имеющий право существовать.
Некоторые остроумные люди объясняют это странное явление особенным образом, они видят в нем не уклонение от исправности, прикрытое пустою формальностию, но глубоко обдуманное намерение. Они утверждают, что для утешения скользящей публики выписывается из Петербурга Англичанин конькобежец, удивляющий на Неве Петербургскую публику. Но как в Москве Невы нет, то он будет бегать на коньках по бульварам и обежит весь город кругом, чем Московская публика, вероятно, будет вполне удовлетворена. Вот, говорят наблюдатели, для чего и сохраняется ледяная кора на бульварах. Если так, то мы нашли разрешение предложенного нам нескромного вопроса. Прибавляют, что Московские тротуары не остановят порыва ловкого Англичанина. Благодаря несчищаемой с них никогда гололедицы, он прокатится по тротуарам, словно по Неве.
Но не можем вполне разделить этой сладкой надежды. Обежать на коньках кругом города — безделица. А возы-то наши! Англичанину, вероятно, и в голову не войдет такого чудного препятствия. Как ему догадаться, что в Москве, по патриархальному обычаю, возы, а равно извощики стоят как ни в одном городе земного шара, а именно поперек улицы, а не гуськом вдоль по тротуару, как во всех городах мира. Этот похвальный московский обычай тем более приносит удовольствие, что улицы в Москве узки, и когда улица таким образом загорожена возами до половины, тогда почти нет ни проезда экипажу, ни прохода пешеходу. Для большего удовольствия публики в этих узких пространствах очень часто несутся во всю прыть беговые санки или мужицкие порожняки на невзнузданных лошадях; скачет дикарь во образе купчика, или барчонка, наезжающего рысаков, или в образе порожняка, попадется ему экипаж, он хлопнется об колесо, попадется ему ребенок или женщина, он свалит их с ног, ускачет и поминай как звали.
Как пресечь такое зло? Мудреная, говорят, задача. Что тут делать хожалым? Как помешать одним возам становиться поперек улицы, а другим в два, в три ряда гнать или раскатываться по той же узкой улице. А казалось бы, дело очень простое. Остановить на скаку невзнузданную лошадь, конечно, трудно, но ведь хорошее городское, как и всякое, устройство состоит не столько в том, чтобы остановить уже производящееся зло, сколько предупредить его. Почему, например, не наблюдать, по прибытии возов, а равно и извощиков, с первой же минуты, чтоб они становились гуськом вдоль тротуара, а не поперек улицы, этой одной мерою уже уничтожилась бы половина зла. Отчего не остановить невзнузданную лошадь при самом въезде в город и не напомнить седоку, что на невзнузданных лошадях по городу ездить запрещено, и что в случае, если его лошадь поскачет, да еще зашибет кого-нибудь, он подвергнется задержанию, штрафу и даже большим наказаниям? И будто бы уже нельзя, в большей части случаев, уследить за непослушным молодцем? Несколько примеров взыскания справедливого и строгого не остались бы без внимания. Не должно забывать, что скорая езда по улицам, незапряженые лошади, неосторожная возка громоздких вещей под страхом штрафа и других наказаний запрещается Сводом Законов Уложения о наказаниях в стат<ьях> 1309, 1310, 1312 и 1313, и что по статье 4123 Свода Законов т. II Губер<нским> Учрежд<ениям> предписаны меры против нарушения благочиния и порядка, а по ст<атье> 4128 «Полиция сопротивляющихся ее законным действиям берет под стражу и отсылает к Суду», и что подобные же узаконения находятся в ст<атье> 179 т. XIV Устава о предупреждении преступлений. Мы указываем здесь лишь некоторые из многих статей законов по сему предмету и позволим себе выписать вполне лишь статью 381 т. XV Улож<ения> о наказаниях; сия статья гласит: «Противозаконным бездействием всегда признается неупотребление чиновником или иным должностным лицом в надлежащее время всех указанных или дозволенных законами средств, коими оно имеет возможность предупредить или остановить какое-либо злоупотребление или беспорядок, и через то предохранить государство, общество или вверенную ему часть от ущерба или вреда».
Почему бы извлечения из этих статей, а равно и из других полицейских правил о предметах, касающихся до улицы, не напечатать на большом листе крупными буквами (необходимое условие) и не приклеить в разных частях города, у будок, на перекрестках? Не прочтет один, прочтет другой — остальным перескажет. А не то, подумайте, господа, в самом деле, на что же это похоже, что в столичном граде Москве, на улице того и смотри, что набежит порожняк, что оглобля или дышло хватит в спину, по тротуарам ногу сломишь, да и на бульварах тоже?
Неужели это выражение насущной необходимости будет гласом вопиющего в пустыне? Посмотрим.
Московский обыватель
О вражде к просвещению, замечаемой в новейшей литературе
…Нежное растение наука!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Чуть солнце опалит, иль чуть мороз прохватит недолго
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
К земле наклонится она. Зато
Как… корни глубоко в земле раскинет…
Пружины государственные ею,
Невидимые, видимые связи
Скрепятся, отвердеют, и ничем
Никто того уж царства не своротит.
Обязанность священна там, и дорог
Покой общественный, и смерть за славу.
Петр Великий — в Сценах из его жизни, соч. Погодина.Некогда находились в русской литературе люди, которые осмеливались утверждать, что русские должны иметь свою собственную литературу, по-своему писать и по-своему думать; литературная чернь смеялась над этими умниками и со всеусердием продолжала переводить Коцебу и Дюкре-Дюмениля. — Наконец, в Европе люди с талантом обратились к отечественным предметам; национальность была разработана во всех литературах; явились народные исторические драмы и повести. Посредственность потянулась вслед за талантом и довела исторический род до нелепости; в настоящую минуту не осталось почти ни одного порядочного великого человека и ни одной части его платья, которые бы не были оклеветаны каким-либо драматиком или романистом. Тогда догадались и наши так называемые сочинители: попробовали — трудно; наконец взялись за ум; раскрыли «Историю» Карамзина, вырезали из нее несколько страниц, склеили вместе — и к неописанной радости сделали разом три открытия: 1-е, что такое произведение читатели с небольшим усилием могут принять за роман или за трагедию, 2-е, что с русского переводить гораздо удобнее, нежели с иностранного, и 3-е, что, следственно, сочинять совсем не так трудно, как прежде полагали. В самом деле, смотришь — русские имена, а та же французская мелодрама. И многие, многие пустились в драмы и особенно в романы; а критика — этот позор русской литературы — установила для сих произведений особые правила. За недостатком исторических свидетельств решили, что настоящие русские нравы сохранились между нынешними извозчиками, и вследствие того осудили какого-либо потомка Ярославичей читать изображение характера своего знаменитого предка, в точности списанное с его кучера; вследствие тех же правил, кто употреблял русские имена, того критика называла национальным трагиком, кто бессовестнее выписывал из Карамзина, того называла национальным романистом, — и гг. А, Б, В хвастались перед читателями, а читатели радовались, что в романе нет ни одного слова, которое бы не было взято из истории; многие находили это средство очень полезным для распространения исторических познаний. До сих пор все еще шло хорошо; но скоро исторический род наскучил в Европе: там опытные в литературе люди обратились к другой точке зрения; они посмотрели вокруг себя, заметили много смешного, много грустного, вспомнили о романах, которые были в моде у отцов наших — и составился ново-старый род под названием нравственно-сатирического. Но как быть? так много было писано в этом роде! все возможные пороки и слабости человека подробно описаны в повестях и выведены на сцену: скупцы, мизантропы, ревнивцы, завистники, невежды были несколько раз выворочены и наизнанку, и опять налицо, и совсем износились. Что было делать? Иностранным романистам-сатирикам помогло просвещение. Да, мм. гг., просвещение! При быстром и многостороннем своем движении, проникая во все классы народа, сделавшись добычею людей различных организаций, оно необходимо должно было произвести некоторые странности, собственно безвредные и исчезающие в истории. Мечты, казавшиеся нелепостию и впоследствии оправданные опытом, породили людей с мечтами действительно нелепыми; кабинетные труды ученого, обратившиеся в постановления для целых народов, породили толпу прожектеров, предлагавших публике неисполнимые законы для преобразования общества; произведения мрачного гения, возвысившего презрение к людям до поэтического вдохновения, произвели толпу людей, притворившихся несчастливыми в этой жизни, как будто бы они понимали другую, лучшую. — Во всем этом было много странного, много смешного и много драматического. Романисты не замедлили воспользоваться этими новыми предметами; в это же время демократический дух повеял на Европу; к нему присоединился дух партии — и из всего этого составился новый, действительно чудовищный род литературы, основанный на презрении к просвещению, исполненный ребяческих жалоб на несовершенство ума человеческого, ребяческих воспоминаний о счастливом невежестве предков, возгласов против философии, против машин, и, наконец, исполненный преступных похвал простоте черни и мужеству ремесленников, разрушающих прядильные машины. Этот род литературы явился в Европе во всех возможных видах: и повестей, и водевилей, и догматических прений; одни хватались за него, как за средство сказать нечто противное общему здравому смыслу и, следственно, все-таки нечто новое; другие — по причинам вовсе не литературным. Все это до некоторой степени понятно в престарелой Европе и имеет свое значение. Но дошла очередь до наших сатириков; вместо того, чтобы посмотреть вокруг себя, углубиться в отечественные нравы, в них отыскать им свойственные оригинальные черты, способные быть перенесенными в мир литературный, — они, поставленные счастливою судьбою среди народа свежего, юного, в эпоху самую драматическую, какая только может быть в истории страны, эпоху слияния народности с общею образованностию, — наши сатирики не заметили ничего этого, а по старой памяти пустились в подражание иностранцам: они напали… как вы думаете на что? На просвещение! Как будто это юное растение, посаженное мудрой десницей Петра и доныне с такими усилиями поддерживаемое правительством и — извините — одним правительством, как будто оно достигло уже полного развития, утучнело уже производить те ненужные отпрыски, которые замечаются в старой Европе!.. Нет; может быть, никогда дух подражания, владычествующий над нашею литературою, не был столько пагубен! Не против злоупотребления науки вооружились наши сатирики, но против самой науки; забыты примеры Фонвизина, Капниста, Грибоедова, их глубокое значение современных нравов, их верный взгляд на наши недостатки, их благородное стремление… Отличительным характером наших сатириков сделалось — попадать редко и метить всегда мимо. Два, три человека занимаются у нас агрономиею; благомыслящие люди делают неимоверные усилия, чтобы распространить прямое знание о сей науке, которое одно может отвратить грозящее нашим нивам бесплодие; два, три человека собираются толковать о философских системах, по слуху известных нашим литераторам; так называемые ученые (т. е. между литераторов) с грехом пополам щечатся вокруг словарей и энциклопедий; а наши нравоописатели толкуют о вреде, происходящем от излишней учености, о вреде машин, пишут романы и повести, комедии, в которых выводятся на сцену какие-то господа Верхоглядовы, не только не существующие, но невозможные в России; выводятся философы, агрономы, нововводители — как будто бы существование этих лиц было характерною чертою в нашем обществе! Названия наук, неизвестных нашим сатирикам, служат для них обильным источником для шуток, словно для школьников, досадующих на ученость своего строгого учителя; лучшие умы нашего и прошедшего времени: Шампольон, Шеллинг, Гегель, Гаммер, особенно Гаммер, снискавшие признательность всего просвещенного мира, обращены в предметы лакейских насмешек, «лакейских» говорим, ибо цинизм их таков, что может быть порожден лишь грубым, неблагодарным невежеством. От этого создания некоторых из наших романистов доходят до совершенной нелепости. Этого мало. В старой Европе ужасы конца XVIII столетия отозвались в нынешней литературе по той же причине, почему идиллическая и жеманная поэзия прежнего времени отозвалась в век терроризма[131]. Так должно быть по естественному порядку вещей, ибо литература, вопреки общепринятому мнению, есть всегда выражение прошедшего; для многих из нынешних европейских сочинителей эти ужасы суть воспоминания детства, а воспоминания детства всегда сильно действуют на сочинителя и невольно проникают во все его произведения; оттого многие из этих господ углубились в грустные исключения из общей жизни человечества и обработали их с большим или меньшим талантом, с большею или меньшею благопристойностию. Наши романисты не заметили этого хода нервической горячки; в фанатизме подражания не усомнились схватиться за это средство для поддержания благосклонности публики, сколько было возможно, и нельзя без смеха читать, как некоторые из этих господ, нападая без милосердия на французских романистов, без милосердия же стараются перенять их нелепый выбор предметов, напыщенный, натянутый слог и даже самую неблагопристойность, все по мере возможности. Фантастический род, на который была также мода в Европе и который, может быть, больше, нежели все другие роды, должен изменяться по национальному характеру, долженствующий соединять в себе народные поверья с девственною мечтою младенчества, — этот род целиком перешел в наши произведения и достиг до состояния настоящего бреда с тою разницею, что этот бред не есть бред естественный, который все-таки может быть любопытным, но бред, холодно перенесенный из иностранной книги. Наконец, демократический дух, составляющий особый колорит в европейских романах, также переселился в наши романы; но у нас обратился в безусловные похвалы черни и в нападки на высшее общество, большею частию недоступное нашим сатирикам.