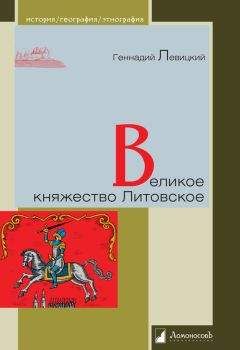Иван Бунин - Том 5. Жизнь Арсеньева. Рассказы 1932-1952
— Я сейчас распоряжусь, чтобы вас проводили туда и подали вам ужин.
Утром, после отпевания и погребения, я немедля уехал. Прощаясь, мы опять обменялись только несколькими словами и опять не глядели друг другу в глаза.
VIIЯ кончил курс, потерял вскоре после того почти одновременно отца и мать, поселился в деревне, хозяйствовал, сошелся с крестьянской сиротой Гашей, выросшей у нас в доме и служившей в комнатах моей матери… Теперь она, вместе с Иваном Лукичом, нашим бывшим дворовым, седым до зелени стариком с большими лопатками, служила мне. Вид она имела еще полудетский — маленькая, худенькая, черноволосая, с ничего не выражающими глазами цвета сажи, загадочно молчаливая, будто ко всему безучастная и настолько вся темная тонкой кожей, что отец когда-то говорил: «Вот, верно, такая была Агарь». Мила она была мне бесконечно, я любил носить ее на руках, целуя; я думал: «Вот и все, что осталось мне в жизни!» И она, казалось, понимала, что я думаю. Когда она родила, — маленького, черненького мальчика, — и перестала служить, поселилась в моей прежней детской, я хотел повенчаться с нею. Она ответила:
— Нет, мне этого не нужно, мне только стыдно будет перед всеми, какая же я барыня! А вам зачем? Вы меня тогда еще скорее разлюбите. Вам надо поехать в Москву, а то вы совсем соскучитесь со мной. А я теперь скучать не буду, — сказала она, глядя на ребенка, который на руках у нее сосал грудь. — Поезжайте, поживите в свое удовольствие, только одно помните: если влюбитесь в кого как следует и жениться задумаете, ни минутки не помедлю, утоплюсь вот вместе с ним.
Я посмотрел на нее — ей не верить было невозможно. И поник головой: да, а мне ведь всего двадцать шесть лет… Влюбиться, жениться — этого я и представить себе не мог, но слова Гаши еще раз напомнили мне о моей конченой жизни.
Ранней весной я уехал за границу и провел там месяца четыре. Возвращаясь в конце июня через Москву домой, думал так: проживу осень в деревне, а на зиму опять куда-нибудь уеду. По дороге из Москвы в Тулу спокойно грустил: вот опять я дома, а зачем? Вспомнил Натали — и подумал: да, та любовь «до гроба», которую насмешливо предрекала мне Соня, существует; только я уже привык к ней, как привыкает кто-нибудь с годами к тому, что у него отрезали, например, руку или ногу… И, сидя на вокзале в Туле в ожидании пересадки, вдруг послал телеграмму: «Еду из Москвы мимо вас, буду на вашей станции в девять вечера, позвольте заехать, узнать, как вы поживаете».
Она встретила меня на крыльце, — сзади нее светила лампой горничная, — и с полуулыбкой протянула мне обе руки:
— Я страшно рада!
— Как это ни странно, вы еще немного выросли, — сказал я, целуя и чувствуя их уже с мучением. И взглянул на нее на всю при свете лампы, которую приподняла горничная и вокруг стекла которой, в мягком после дождя воздухе, кружились мелкие розовые бабочки: черные глаза смотрели теперь тверже, увереннее, вся она была уже в полном расцвете молодой женской красоты, стройная, скромно нарядная, в платье из зеленой чесучи.
— Да, я все еще расту, — ответила она, грустно улыбаясь.
В зале по-прежнему висела в переднем углу большая красная лампада перед старыми золотыми иконами, только не зажженная. Я поспешил отвести глаза от этого угла и прошел за ней в столовую. Там на блестящей скатерти стоял чайник на спиртовке, блестела тонкая чайная посуда. Горничная принесла холодную телятину, пикули, графинчик с водкой, бутылку лафита. Она взялась за чайник:
— Я не ужинаю, выпью только чаю, но вы сперва покушайте… Вы из Москвы? Почему? Что ж там делать летом?
— Возвращаюсь из Парижа.
— Вот как! И долго там пробыли? Ах, если б я могла поехать куда-нибудь! Но ведь моей девочке всего четвертый год… Вы, говорят, усердно хозяйствуете?
Я выпил рюмку водки, не закусывая, и попросил позволения курить.
— Ах, пожалуйста! Я закурил и сказал:
— Натали, не нужно вам быть со мной светски любезной, не обращайте на меня особого внимания, я заехал только взглянуть на вас и опять скрыться. И не чувствуйте неловкости — ведь все, что было, быльем поросло и прошло без возврата. Вы не может; не видеть, что я опять ослеплен вами, но теперь вас никак не может стеснять мое восхищение — оно теперь бескорыстно и спокойно…
Она склонила голову и ресницы, — к дивной противоположности того и другого никогда нельзя было привыкнуть, — и лицо ее стало медленно розоветь.
— Это совершенно точно, — сказал я, бледнея, но крепнущим голосом, сам себя уверяя, что говорю правду. — Ведь все на свете проходит Что до моей страшной вины перед вами, то я уверен, что она уже давным-давно стала для вас безразлична и гораздо более понятна, простительна, чем прежде: вина моя была все-таки не совсем вольная и даже в ту пору заслуживала снисхождения по моей крайней молодости и по тому удивительному стечению обстоятельств, в которое я попал. И потом, я уже достаточно наказан за эту вину — всей своей гибелью.
— Гибелью?
— А разве не так? Вы и до сих пор не понимаете, не знаете меня, как сказали когда-то?
Она помолчала.
— Я видела вас на балу и Воронеже… Как еще молода была я тогда и как удивительно несчастна! Хотя разве бывает несчастная любовь? — сказала она, поднимая лицо и спрашивая всем черным раскрытием глаз и ресниц. — Разве самая скорбная в мире музыка не дает счастья? Но расскажите мне о себе, неужели вы навсегда поселились в деревне? Я с усилием спросил:
— Значит, вы тогда меня еще любили?
— Да.
Я замолчал, чувствуя, что лицо у меня теперь уже горит огнем.
— Это правда, что я слышала… что у вас есть любовь, ребенок?
— Это не любовь, — сказал я. — Страшная жалость, нежность, но и только.
— Расскажите мне все.
И я рассказал все — вплоть до того, что сказала мне Гаша, посоветовавши мне «поехать, пожить в свое удовольствие». И кончил так:
— Теперь вы видите, что я всячески погиб…
— Полноте! — сказала она, думая что-то свое. — У вас еще вся жизнь впереди. Но брак для вас, конечно, невозможен. Она, конечно, из таких, что и ребенка не пожалеет, не то что себя.
— Не в браке дело, — сказал я. — Бог мой! Мне жениться!
Она в раздумье посмотрела на меня:
— Да, да. И как странно. Ваше предсказание сбылось — мы породнились. Вы чувствуете, что ведь вы мне двоюродный брат теперь?
И положила руку на руку мне:
— Но вы ужасно устали с дороги, даже не притронулись ни к чему. На вас лица нет, довольно разговоров на сегодня, идите, постель для вас в павильоне приготовлена…
Я покорно поцеловал ей руку, она позвала горничную, и та с лампой, хотя было довольно светло от месяца, низко стоявшего за садом, провела меня сперва главной, потом боковой аллеей на просторную поляну, в эту старинную ротонду с деревянными колоннами. И я сел у раскрытого окна, в кресле возле постели, стал курить, думая: напрасно совершил я этот глупый, внезапный поступок, напрасно заехал, понадеялся на свое спокойствие, на свои силы… Ночь была необыкновенно тиха, было уже поздно. Должно быть, прошел еще небольшой дождь — еще теплее, мягче стал воздух. И в прелестном соответствии с этим неподвижным теплом и тишиной протяжно и осторожно пели вдали, в разных местах села, первые петухи. Светлый круг месяца, стоявшего против ротонды, за садом, как будто замер на одном месте, как будто выжидательно глядел, блестел среди дальних деревьев и ближних раскидистых яблонь, мешая свой свет с их тенями. Там, где свет проливался, было ярко, стеклянно, в тени же пестро и таинственно… И она, в чем-то длинном, темном, шелковисто блестевшем, подошла к окну, тоже так таинственно, неслышно…
Потом месяц сиял уже над садом и смотрел прямо в ротонду, и мы поочередно говорили — она, лежа на постели, я, стоя на коленях возле и держа ее руку:
— В ту страшную ночь с молниями я любил уже только тебя одну, никакой другой страсти, кроме самой восторженной и чистой страсти к тебе, во мне уже не было.
— Да, я со временем все поняла. И все-таки, когда вдруг вспоминала эти молнии тотчас после воспоминания о том, что за час перед тем было в аллее…
— Нигде в мире нет тебе подобной. Когда я давеча смотрел на эту зеленую чесучу и на твои колени под нею, я чувствовал, что готов умереть за одно прикосновение к ней губами, только к ней.
— Ты никогда, никогда не забывал меня все эти годы?
— Забывал только так, как забываешь, что живешь, дышишь. И ты правду сказала: нет несчастной любви. Ах, эта твоя оранжевая распашонка и вся ты, еще почти девочка, мелькнувшая мне в то утро, первое утро моей любви к тебе! Потом твоя рука в рукаве малороссийской сорочки. Потом наклон головы, когда ты читала «Обрыв» и я бормотал: «Натали, Натали!»
— Да, да.
— А потом ты на балу — такая высокая и такая страшная в своей уже женской красоте, — как хотел я умереть в ту ночь в восторге своей любви и погибели! Потом ты со свечой в руке, твой траур и твоя непорочность в нем. Мне казалось, что святой стала та свеча у твоего лица.