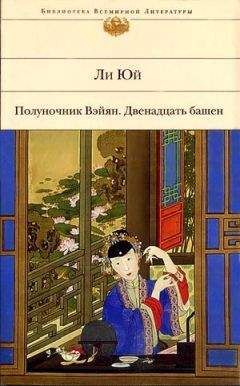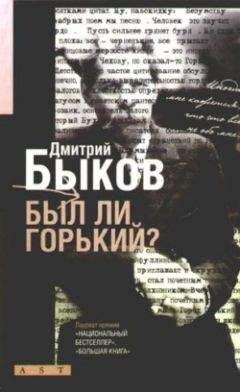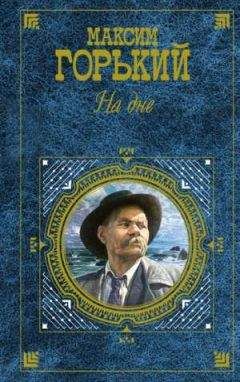Ион Друцэ - Избранное в 2-х томах (Том 1, Повести и рассказы)
Директор школы, человек, обладавший большими связями, посмеивался над этой затеей. Ну побил он его в темноте, может, там лишний раз ударил, так ведь за дело же! Этот сукин сын каждый день брал с него по пять рублей, а ночью сам же сдирал со Звонницы доски, чтобы днем опять заработать пятерку. Люди, однако, не смеялись над этой проделкой Симионела, им это казалось не таким уж смешным, и вот полетели телеграммы, запросы, приехали двое из Министерства внутренних дел Союза. После Нового года должен был начаться процесс. Директор никак не ожидал, что дело это будет взято под контроль Прокуратурой Союза, тут все его связи, все звонки и ходатайства оказались бессильны.
Николаю Трофимовичу Балте грозила тюрьма. Самая обыкновенная, с решетками, с конвоем, а в тюрьму ему как-то не хотелось, и вот он встал однажды утром и, как это издавна водится среди молдаван, пришел в маленький дом к своей жертве, к обиженному, побитому им человеку. Симионел, перепуганный спросонья, открыл было рот, чтобы опять завопить на всю деревню, он думал, что все начнется сначала, но на этот раз боевой дух Николая Трофимовича был на нуле.
- Не бойся, я не буду тебя бить. Я пришел помириться. Сколько же ты хочешь с меня?
Еще неделю тому назад он легко бы устроил это дельце за какие-нибудь десять-пятнадцать рублей, и Симионел был бы счастлив, но теперь у парня были опекуны - те самые пять человек, которые первыми пошли утром на гору узнать, в чем там дело. Они собрались вместе, чтобы обсудить предложение директора. Четверо сказали: "Никакого примирения, ни за какие деньги, истина дороже денег". Но пятый сказал: "А почему бы и нет? Ведь этот бедный Симионел - на нем никто не видел хорошего костюма, он вкусного куска бог знает с каких пор не ел, крыша лачуги, в которой он живет, протекает. Так почему бы и нет? Что ему за прок, если директор будет в тюрьме таскать землю тачкой?"
Опекуны запросили десять тысяч. Оскорбленный директор даже не нашел нужным ответить, но к вечеру предложил три. В конце концов сошлись на шести тысячах - пять тысяч получал Симионел, а шестая уходила на покрытие расходов, связанных с поездками в Кишинев и Москву.
Симионел был счастлив. В день получения денег жена одного из опекунов, женщина добрая, но бестолковая, поехала с ним в район, купила ему непомерно большой шерстяной костюм, огромную фетровую шляпу, черные ботинки и плащ болонью. Остальные жены опекунов накинулись на нее: зачем Симионелу такие дорогие, совершенно не по нему вещи? Но было уже поздно. Счастливый Симионел надел на себя все обновки и с утра до вечера рыскал по деревне в поисках тех, кто не видел еще, до какой хорошей жизни он добрался. После длительных совещаний опекуны купили ему телку в колхозе - все равно дел у него никаких, пускай себе ходит и пасет, а оставшиеся деньги положили на сберкнижку.
К великому несчастью директора, Симионел оказался еще и франтом. Два раза в день, утром и вечером, он шествовал вдоль деревни - утром шел в лес пасти телку, вечером возвращался с ней из лесу, и было уморительно видеть его, важного, степенного, полного достоинства, ведущего за собой на веревке рыжую с белыми пятнами телку. Все учел бедный Николай Трофимович, но эти утренние и вечерние шествия Симионела не учел, а они-то и добили его.
В каждой деревне, в каждом колхозе, в каждом коллективе существует некий запас допустимых вольностей для людей, занимающих сколько-нибудь ответственное положение. И когда эти запасы исчерпываются и репутация опускается ниже уровня допустимого, тогда наступает критическая минута, и никакие связи, никакие заслуги, никакие увертки не могут помочь.
И наступил, конечно же, день, когда приехали два человека из Кишинева, из Министерства просвещения. Собрали педсовет, и, хотя повестка дня ни для кого ничего дурного не предвещала, все знали, что снимают Балту, наконец настал час, и его снимают. Он и сам понимал, что его песенка спета, и, кажется, смирился с этим. Сидел в уголочке, уступив свое председательское место приехавшим из центра товарищам, и с видом побитой собаки ждал, когда начнется, когда в него будут кидать камни. А между тем педсовет шел по другим рельсам, люди занимались другими вопросами, и по мере выступлений лицо директора прямо вытягивалось от удивления. Выступающие говорили о чем угодно, только не о нем. И он заерзал в уголочке на своем стуле. Он готовился к поражению, он готов был сложить с себя полномочия хотя бы в видимой драке, но чтобы совсем не упоминали даже его имени?!
Все ждали, когда выступит Хория. Уж ему-то, казалось, невозможно будет обойти молчанием имя директора, а вместе с тем ему понравился этот деловой педсовет, и он решил поступиться своей личной обидой. Он как-то сумел построить свое выступление так, что тоже не упомянул имя директора, даже не посмотрел в тот угол, где Балта сидел. Он говорил спокойно ж деловито о программе, об учениках, об успеваемости, о посещаемости, и, как ни странно, именно это выступление потрясло директора. Должно быть, ему почудилось, что в голосе Хории пробиваются нотки будущего директора. А может, дело было не в этом. Просто директор ненавидел его люто, по-животному, и, пока Хория говорил о безобидных вещах, Балта поклялся про себя умереть, но не допустить торжества своего противника. Весь синий, со вздувшимися венами поперек лба, он ждал, когда тот умолкнет, и, как только буковинец закончил свое выступление, Николай Трофимович тут же встал и дрожащим голосом, обращаясь к представителям министерства, сказал:
- Тут нужно учесть то обстоятельство, что у товарища Холбана против меня личная ненависть.
Один из инспекторов министерства, человек, по-видимому, добрый, по наивный, спросил:
- Разве он говорил о вас?!
- Он, правда, мое имя не упомянул, но все, что он говорил, направлено против меня. И все только потому, что у нас с ним сугубо личное.
Второй инспектор без задней мысли спросил:
- Что значит сугубо личное?
Балта на минуту призадумался - он еще не знал, как бы это поделикатнее сформулировать.
- Видите ли... У меня любовь с его женой. Мы с ней, так сказать, в интимности...
Учителя, участвовавшие в педсовете, засмеялись, улыбнулся и сам Хория: надо было знать Жанет, ее бесконечную страсть к флиртам, танцам, к вечеринкам, и этого тупого, облысевшего человека, которого, видимо, даже собственная мать не любила. Но вдруг это всеобщее веселье стало как-то странно дробиться, стихать. Оглянувшись. Хория увидел, что все почему-то стыдливо опускают глаза, не знают, куда девать руки, очки, сумочки, а за книжным шкафом, возле окошка, на самом видном, на самом людном месте сидела пристыженная его жена. По ее лицу блуждали то красные, то белые пятна, крылатые ноздри трепетали и никак не могли ухватить столь нужный им в это мгновение воздух, опушенные глаза метались как у затравленного зверька, она потирала виски, чтобы не потерять сознание, и тут добрейший Харет Васильевич загрохотал что было мочи:
- Каналья!
Потом он еще что-то кричал, директор ему что-то отвечал, но, в чем состояла эта словесная перепалка, Хория уже не слышал. Для него день вдруг поблек, разноцветные круги поплыли, пересекаясь на разных уровнях, и он понял, что с ним случилась трагедия. Если он сию же минуту не выйдет, то его потом вынесут. И он сказал себе: "Самое важное - это продержаться, выйти самому, спокойно, с достоинством, уйти куда глаза глядят, забыть навеки, что есть такая деревня Каприяна, что есть такая двухэтажная школа и есть такая смуглая красивая Жанет".
Он вышел, низко опустив голову, ни на кого не глядя, затем в учительской надел куртку, шапку, взял портфель. Двор школы был совершенно пустой, и улицы тоже были пусты, безжизненны. Он долго шел по селу, разбитый, шел, низко опустив голову, ссутулившись, потому что мела буйная предвесенняя поземка. Вышел из села по той же тропинке, по которой спустился некогда в эту Каприяну, - тогда, правда, была осень, все золотилось, пахло айвой и виноградным соком, а теперь до самого шоссе одна поземка и мерзлая земля.
Машин ходило много - как раз в те дни колхозы развозили со станции минеральные удобрения, и он быстро добрался до вокзала. В зале ожидания сел неподалеку от огромной печки, чуть отогрелся и как-то тупо ни о чем больше не думал. Он знал по ритму сердца, по привкусу во рту, что разладилось что-то там, внутри, но что именно - не знал. Хотелось быстрее сесть в поезд и уехать - пусть то, что с ним должно произойти, произойдет не здесь, не на этой земле, не среди этих людей. Он решил уехать первым же поездом, в какую бы сторону он ни шел - если раньше пойдет на юг, уедет в Кишинев, если на север - вернется в Буковину. Через час с лишним пошел поезд на Кишинев, и он купил билет, сел. Поезд был пригородный, без спальных мест, но ему было плохо, и он лег. Он лежал, подобрав ноги, на короткой скамейке, на которой надо было сидеть троим, и хотя мест не хватало и многие торчали в проходе, его не трогали, понимая, что это неспроста, что-то произошло с ним.