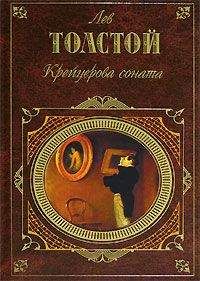Лев Толстой - Том 12. Произведения 1885-1902 гг
Несмотря на задерживанье, он уехал один домой. Дома в номере он выпил стакана два зельтерской воды и сел за стол сводить свои счеты. Утром он ездил по делам, занимать деньги. Брат не дал ему. И он занял у ростовщика. Он сидел, делая расчеты. И с неприятным чувством вспоминал Анночку и то, что надо было отказаться от нее. И гордился тем, что он отказался. Он вынул портрет Вари: полная, стройная, румяная, сильная русская красавица. Полюбовавшись и поставив перед собой, он продолжал работу счетов.
Вдруг в коридоре он услышал голос Анночки и Сущева. Он вел ее прямо к его двери.
— Граша! Что же это ты сделал?
И она вошла к нему…
На другое утро Лотухин пришел пить чай к Сущеву и упрекал его.
— Ты понимаешь, что это могло бы страшно огорчить ее.
— Ну, еще бы. Будь спокоен. Я нем, как рыба.
7 мая. Граша вернулся из Москвы. Все та же светлая, детская душа, я вижу, что его мучает то, что он не богат для меня, только для меня. Вечером зашел разговор о детях, о наших будущих детях. Я не могу верить, чтоб у меня были дети, а хоть дитя. Не может быть. Я умерла бы от счастья. Да если бы они были, как бы я успела любить их и его. Это нельзя вместе. Ну, да что будет, то будет.
Через месяц была свадьба. К осени Евграф Матвеич получил место в министерстве, и они переехали в Петербург. В сентябре она узнала, что она беременна, и в марте Варвара Николаевна родила первого сына.
Первые роды, как и большей частью бывает, были неожиданные, бестолковые именно потому, что всё все хотели предвидеть и всё вышло совсем навыворот.
Кто прав?
Аще не будете как дети, не впидите в царствие божие.
Была половина октября. К земскому начальнику в одном из черноземных уездов заехала по дороге в Петербург, где она обыкновенно проводила зиму, сестра его жены с мужем и дочерью. Они приехали в двенадцать и теперь, в третьем часу, после поданного им не в урочное время чая, ожидая обеда, сидели все порознь, мужья, жены и дети, по отдельным комнатам.
Приезд сестры был не совсем удобен для жены земского начальника только тем, что почти совпал с днем, назначенным земским начальником для псовой охоты в его лесу. Еще с ранней осени важный князь, большой охотник, державший большую охоту в том же уезде и участке, просился в места земского начальника, и нельзя было отказать, и вот нынче, в тот же день, как приехал свояк, приходила охота, и должен был приехать сам князь.
Охота пришла, но князя еще не было, и было неизвестно даже, приедет ли он или нет и если приедет, то останется ли ночевать или только проведет вечер.
Мужчины были в кабинете. Хозяин, подвижный, красивый, элегантный сложением и манерами мужчина, с густой шапкой волос, зачесанных кверху, и маленькой бородкой, ходил взволнованно по ковру кабинета из угла в угол и, не бросая папироски, горячо говорил.
Гость-свояк, пухлый, тяжелый человек с расплывающимся в кресле телом, сидел у письменного стола, поглаживая прорезной слоновый нож, и, иронически улыбаясь глазами, возражал сдержанным тоном. Между свояками не было любви, и каждый, говоря про другого, должен был удерживаться, чтобы не говорить все худое, которое так и просилось на ум. Казалось бы, делить им было нечего, и, в сущности, оба были совершенно одинакового мира, воспитания и воззрений на мир. Оба были помещики (приезжий, Владимир Иванович Спесивцев, был только более богат, чем земский начальник, Анатолий Дмитриевич Лыжин). Оба служили: приезжий — в Петербурге, в министерстве государственных имуществ, занимая место члена совета, хозяин — земским начальником в голодающей губернии. Оба были либеральны, индифферентны в религиозном отношении, оба считали необходимым соблюдать decorum[26] и не выделяться от других. Оба жили внешним образом хорошо с своими женами, оба были отцами семейств: у Владимира Ивановича было два сына — в пажеском корпусе и правоведении — восемнадцати и тринадцати лет, и дочь Вера, шестнадцати лет, которая теперь была вместе с ними за границей и вместе с ними возвращалась; у Анатолия Дмитриевича была старшая дочь пятнадцати лет и три мальчика. Спорить им, казалось, было не о чем, а между тем надо было им делать усилия над собой, чтобы соглашаться, о каком бы предмете ни заговорили.
— Совсем нет. Я признаю в принципе, — говорил Анатолий Дмитриевич, — что выборное начало более обеспечивает общество, но тут вопрос другой, тут вопрос о том в данном случае, имею ли я право отказаться, дав возможность крепостнику-негодяю занять это место и сечь мужиков.
— Да какое же это признание выборного начала, когда вы занимаете место, заменившее выборное, и вступаете в него по назначению? — сказал Владимир Иванович.
— Законы пишу не я.
— Я, признаюсь, не могу допустить, — тихо улыбаясь, отвечал Владимир Иванович, — чтобы… — он хотел сказать: «уважающий себя человек», но замялся, — чтобы человек в наши времена мог толковать о том, например, сечь или не сечь, то есть стегать березовыми лозами по пояснице взрослых людей и отцов семейств. Есть такие дела, которые нужно не брать на себя…
— Нет, должно, — возвышая голос, сказал Анатолий Дмитриевич. Его раздражило и это умолчание, и смысл самой речи, и более всего эта манера Владимира Ивановича спокойно острить. Когда Владимир Иванович говорил о хлестании березовыми лозами, он открыл уже рот, чтобы сказать неприятное, но, вспомнив, что он хозяин и тот только что приехал, сдержался и, подойдя к столу, напряженно давил в раковине-пепельнице окурок папиросы. — Нет, должно. Не должно белоручничать. Я знаю, что должно, потому что знаю, что делаю это не для себя.
Он вспомнил в это время о жалованье, которое было очень нужно ему, и еще более рассердился и даже вошел в пафос.
— Если бы мы все отступились, то все места заняли бы разные негодяи, и погибло бы все сделанное в шестидесятых годах. Нет, Владимир Иванович, не будемте говорить лучше.
— Ну, не будемте, — спокойно улыбаясь, сказал Владимир Иванович, — это покойнее, — и положил ножик. — Какой славный этот лось у вас, — сказал он, указывая на выделанную голову.
— Да, я это убил прошлого года. — И сейчас же вспомнилось Анатолию Дмитриевичу опять неприятное, то, что Владимир Иванович ничего не понимал в охоте и смеялся над ней. В это время вошел лакей и принес конверт из земства. Анатолий Дмитриевич распечатал.
— Позовите Петра Семеновича. Да нет, я сам пойду, — сказал он, подумав о том, как приятно избавиться от tête-à-tête[27] со свояком. — Извините, Владимир Иванович. — И он вышел.
Владимир Иванович, как только ушел Анатолий Дмитриевич, тотчас же перестал улыбаться глазами. Он, очевидно, делал это, только чтобы дразнить своего свояка, и стал серьезно смотреть перед собой. «А впрочем, что мне за дело? — подумал он. — Не люблю только эту важность и этот пошлый либерализм, шестидесятые годы. Il s'en soucie comme de l'an quarante[28]. И куда она могла их деть?» — стал он думать о ящике сигар, которые он помнил, что он отдал жене, но которых нигде не оказалось. Вспомнил он при этом про жену, как она настояла-таки, чтобы заехать к сестре. «Она решительно стала особенно молодиться после Рима и этого дурацкого Ордини. А препротивно… Что же не зовут к обеду? Пора бы! Едва ли будет хороший обед! Россея!» И, как всегда, ему стало тяжело, как всегда бывало, когда он оставался один с собою. Он поспешно встал и взял книжку со стола. Это был календарь. Он перелистовал и стал читать некролог неизвестного ему генерала.
«Противное существо! — думал Анатолий Дмитриевич, идя по коридору. — То есть не противное. Он ничего, но мне тяжело с ним. Какой-то тон снисходительный, всезнающий. Не могу с ним. Эта самоуверенность. Надеюсь, ненадолго. Ну, да бог с ним».
— Анатоль, это ты? — окликнула его жена из двери своей комнаты, мимо которой он проходил. Он остановился. Маленькая миловидная женщина с ямочками и улыбками в глазах и губах и вьющимися вокруг головы волосами высунулась к нему. — Что ты?
Он хотел войти к ней.
— Не входи, Маня раздета.
— Что ты?
— Матреша (это экономка) приготовила им в угловой. А вдруг как князь останется ночевать? Пускай Владимир ляжет в кабинете. Маня со мной. Тогда угловую можно отдать князю.
Анатолий Дмитриевич поморщился.
— Князь не останется ночевать.
Варя, его жена, знала его отношения к свояку и знала, что поморщился он от мысли, что свояк будет в кабинете.
— Да ведь недолго. Ужасно ты нетерпим.
— Нисколько я не нетерпим, — с досадой пробурчал Анатолий Дмитриевич. — Вечно твои замечания.
— Отчего же я могу стесниться, а ты на две ночи не можешь уступить своего кабинета?
— Ах, да я не об этом. Я очень рад отдать кабинет. Я только… — и, не сказав, что он только, он пошел к секретарю.