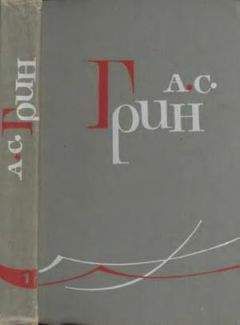Александр Грин - Том 2. Рассказы 1910–1914
Недавно в одном из еженедельных журналов я прочел историю двух подростков. Юные брат и сестра провели лето вдвоем на небольшом островке, в лугах; девочка исполняла обязанности хозяйки, а мальчик добывал пропитание удочкой и ружьем; кроме них на острове никого не было. Интервьюер, посетивший их, вероятно, кусал губы, чтобы не улыбнуться на заявление маленьких владетелей острова, что им здесь очень хорошо и они всем довольны. Разумеется, это были дети богатых родителей. Но я вижу их просто так, как они были изображены на приложенной к журнальному сообщению фотографии: они стояли у воды, держась за руки, в траве, и щурились. Фотография эта мне чрезвычайно нравится в силу смутных представлений о желательном в человеческих отношениях.
Он наклонился ко мне, как бы выспрашивая взглядом, что я об этом думаю.
— Меня интересует, — сказал я, — возможна ли защита помимо острова и монастыря.
— Да, — не задумываясь, сказал Аносов, — но редко, реже, чем ранней весной — грозу, приходится видеть людей с полным сознанием своего человеческого достоинства, мирных, но неуступчивых, мужественных, но ушедших далеко в сознании своем от первобытных форм жизни. Я дал их точные признаки; они, не думая даже подставлять правую для удара щеку, не прекращают отношений с людьми; но тень печали, в благословенные, сияющие, солнечные дни цветущего острова Робинзона сжимавшей сердце отважного моряка, всегда с ними, и они вечно стоят в тени. «Когда янычары, взяв Константинополь, резали народ под сведем Айя-Софии, — говорит легенда, — священник прошел к стене, и камни, раздвинутые таинственной силой, скрыли его от зрелища кровавой резни. Он выйдет, когда мечеть станет собором». Это — легенда, но совсем не легенда то, что рано или поздно наступит день людей, стоявших в тени, они выйдут из тени на яркий свет, и никто не оскорбит их.
Я задумался и увидел печального Робинзона на морском берегу в тишине дум.
Аносов сказал:
— Кое о чем хотелось бы рассказать вам. А может быть, вы мало интересуетесь этой темой?
— Нет, — сказал я, — что может быть интереснее души человеческой?
— В 1911 году привелось мне посетить редкого человека. Я стоял на Троицком мосту. Перед этим мне пришлось высидеть с другими не имеющими ночлега людьми полночи. Я, как и они, дремал на скамье моста, свесив голову и сунув руки между колен.
Подремывая, видел я во сне все соблазны, коими богат мир, и рот мой, полный голодной слюны, разбудил меня. Я проснулся, встал, решился и, — не скрою, — заплакал. Все-таки я любил жизнь, она же отталкивала меня обеими руками.
У перил было жутко, как на пустом эшафоте. Летняя ночь, пестрая от фонарей и звезд, окружила меня холодной тишиной равнодушия. Я посмотрел вниз и бросился, но, к великому удивлению своему, упал обратно на мостовую, а затем сильная рука, стиснув мне до боли плечо, поставила меня на ноги, отпустила и медленно погрозила пальцем.
Ошеломленный, я тихо смотрел на грозящий палец, затем решился взглянуть на того, кто встал между рекой и мной. Это был усталого, спокойного вида человек в темной крылатке, шляпе, бородатый и плотный.
— Обождите немного, — сказал он, — я хочу поговорить с вами. Разочарованы?
— Нет.
— Голодны?
— Очень голоден.
— Давно?
— Да… два дня.
— Пойдемте со мной.
В моем положении было естественно повиноваться. Он молча вышел к набережной, крикнул извозчика, мы сели и тронулись, я только что хотел назвать себя и объяснить свое положение, как, вздрогнув, услышал тихий, ровный, грудной смех. Спутник мой смеялся весело, от всей души, как смеются взрослые при виде забавной выходки малыша.
— Не удивляйтесь, — сказал он, кончив смеяться. — Мне смешно, что вы и многие другие будут голодать, когда на свете так много еды и денег.
— Да, на свете, но не у меня же.
— Возьмите.
— Я не могу найти работы.
— Просите.
— Милостыню?
— О, глупости! Милостыня — такое же слово, как все другие слова. Пока нет работы, просите — спокойно, благоразумно и веско, не презирая себя. В просьбе две стороны — просящий и дающий, и воля дающего останется при нем — он может дать или не дать; это простая сделка и ничего более.
— Просите! — с горечью повторил я. — Но вы ведь знаете, как одиноки, тупы, жестоки и злы все по отношению друг к другу.
— Конечно.
— О чем же вы говорите тогда?
— Не обращайте внимания.
Извозчик остановился. Пройдя двор, мы поднялись на четвертый этаж, и покровитель мой нажал кнопку звонка. Я очутился в небольшой, уютной, весьма простой и обыкновенной квартире. Нас встретила женщина и собака. Женщина была так же спокойна, как ее муж, привезший меня. Ее лицо и фигура были обыкновенными для всех здоровых, молодых и хорошеньких женщин; я говорю о впечатлении. Спокойный водолаз, спокойная женщина и спокойный хозяин квартиры казались очень счастливыми существами; так это и было.
Спокойно, как давно знакомый гость, я сел с ними за стол (собака сидела тут же, на полу) и ел, и, встав сытый, услышал, как объясняет жизнь мой спаситель.
— Человеку нужно знать, господин самоубийца, всегда, что он никому на свете не нужен, кроме любимой женщины и верного друга. Возьмите то и другое. Лучше собаки друга вы не найдете. Женщины — лучше любимой женщины вы не найдете никого. И вот, все трое — одно. Подумайте, что из всех блаженств мира можно взять так много и вместе с тем мало — в глазах других. Оставьте других в покое, ни они вам, ни вы им, по совести, не нужны. Это не эгоизм, а чувство собственного достоинства. Во всем мире у меня есть один любимый поэт, один художник и один музыкант, а у этих людей есть у каждого по одному самому лучшему для меня произведению: второй вальс Гадара; «К Анне» — Эдгара По и портрет жены Рембрандта. Этого мне достаточно; никто не променяет лучшего на худшее. Теперь скажите, где ужас жизни? Он есть, но он не задевает меня. Я в панцире, более несокрушимом, чем плиты броненосца. Для этого нужно так много, что это доступно каждому, — нужно только молчать. И тогда никто не оскорбит, не ударит вас по душе, потому что зло бессильно перед вашим богатством. Я живу на сто рублей в месяц.
— Эгоизм или не эгоизм, — сказал я, — но к этому нужно прийти.
— Необходимо. Очень легко затеряться в необъятном зле мира, и тогда ничто не спасет вас. Возьмите десять рублей, больше я не могу дать.
И я видел, что более он действительно не может дать, и просто, спокойно, как он дал, взял деньги. Я ушел с верой в силу противодействия враждебной нам жизни молчанием и спокойствием. Чур меня! Пошла прочь!
Дьявол Оранжевых Вод*
«Внимай мне, — дьявол мне сказал в полночной тишине, – внимай! я расскажу тебе о горестной стране…»
Э. ПоИнгер лежал в постели, кашляя более, чем следовало. Его правая рука, бессильно свешенная с кровати, изнуренно шевелила бледными пальцами, в полузакрытых глазах сверкал лихорадочный жар, а под мышкой, достаточно нагретый лампой, торчал максимальный термометр.
Этот, внушающий сострадание, вид заставил рассмеяться вошедшего в комнату сорокалетнего человека. Движения вошедшего были резки, быстры и угловаты; лицо его, бледное и широкое, казалось бы незначительным, если бы не крутой изгиб высоко поставленных, дугообразных бровей. Он был одет в просторный, мешковатый костюм черного цвета и толстые башмаки, а в правой, унизанной старинными перстнями руке держал цилиндр.
— Это я, а не доктор, — сказал вошедший, — доктора с этим поездом не было. Так что вы, милый Ингер, можете нагреть термометр в другой раз.
Ингер усиленно заморгал, краснея и щурясь.
— Слушайте, Бангок, — сказал он, — если вы осмеливаетесь…
— Да, — перебил Бангок, — я осмелился. Я смотрел в замочную скважину. Я увидел прежде всего свою трубку, исчезнувшую непостижимым для меня образом. Трубка эта торчала у вас в зубах. Не умея курить, вы наполнили комнату дымом, уронили огонь на простыню и прожгли дырку. Дырка эта находится сейчас под мягкой частью вашего тела. Затем вы извлекли маленькое, гнусное, дешевое зеркало и пытались любоваться своим лицом, строя величественные гримасы. Потом вы совершили подлог с термометром и, наконец, услышав скрип двери, раскинулись в позе умирающего гладиатора.
— Если я выздоровею завтра, — с отчаянием сказал Ингер, — меня отошлют в город. Мы очень любим друг друга.
— Да? — Бангок упорно посмотрел на мальчика, чихнул и высморкался. — Это любопытно, — сказал он. — А где вы думаете жить после свадьбы?
— На Канарских или Молуккских островах.
— Настоящее дачное место, — заметил Бангок. — Как же вы видитесь?
— Она подходит к окну.
— Ингер, — сказал Бангок, — я не спрашиваю тебя о том, целуетесь вы или нет, я не спрашиваю также, съедаешь ли ты все сладкие пирожки, похищаемые для тебя твоей возлюбленной. Я спрашиваю — отдашь ли ты мне, маленький негодяй, трубку?