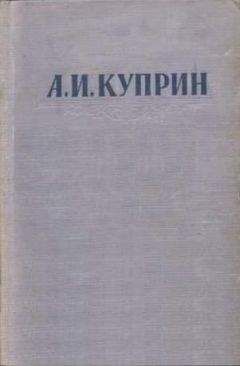Александр Куприн - Том 6. Произведения 1914-1916
В глуши Весьегонского уезда служил урядником его отец. Гущин всегда скрывал отцовскую профессию. «Я сын пастуха», — говорил он со скромной поэтической гордостью и даже упоминал об этом в одном хромом стихотворении: «Сын пастуха, я знаю край родимый». Очень приятно щекотала мысль показаться семье, соседям, знакомым писарькам и поповнам. Когда-то все знали его сонливым мальчишкой при волостном правлении, а теперь — подите-ка, выкусите, известный писатель, со знаменитостями на «ты», вся Россия его читает. И слова какие звучные он будет употреблять: редактор, гонорар, корректура, метранпаж, гранки, купюры, матрица, линотип.
Поездка сложилась удачно. До станции Бологого он выклянчил бесплатный билет второго класса у знакомого писателя, служившего в отделе невостребованных грузов; от Бологого до Рыбинска пришлось заплатить пустяки в третьем классе, а от Рыбинска до Весьегонска ему дал даровой каютный проезд его дядя, односельчанин Куропаткин, который зимою скупал у мужицкой бедноты пеньку, веретена, дуги, масло, лен, а летом служил агентом в пароходном крестьянском обществе, пускавшем два маленьких пароходишка от Рыбинска до Устюжны и обратно.
Гущин не вышел еще из того прекрасного возраста (из которого иные, впрочем, не выходят до пятидесяти лет), когда человек в природе и в людях ничего не находит интереснее, значительнее и красивее себя. Поэтому в вагоне — и вчера вечером, и сегодня днем — он сумел разговориться с несколькими пассажирами — с той легкостью, которая так присуща железнодорожным встречам. Гущин всегда смертельно скучал, если собеседник говорил о самом себе, и вдвое тосковал, когда разговор касался вопросов отвлеченных или общественных. Поэтому он ловким приемом сворачивал речь на себя. Например, кстати вставлял небрежное замечаньице: «Ужасно утомляешься за зиму и так рад отдохнуть», или: «Ни на ком так тяжело не отзываются теперешние условия, как на нас»; или еще: «Это хорошо говорить людям двадцатого числа». Или он внезапно проявлял необычайную осведомленность о составе редакций и о слабостях громких писателей. Неизбежно вытекал робкий вопрос:
«А вы сами, извините за нескромность, чем изволите заниматься?» И следовал лицемерно-застенчивый ответ:
«Да как сказать… Я не знаю, назвать ли это даже профессией… Я, видите ли, писатель… Гущин — моя фамилия». — «А-а-а! Очень, очень приятно. Как же, как же… Отлично вспоминаю. То-то, я вижу, лицо будто бы знакомое. Вероятно, портреты ваши встречал в иллюстрациях?.. Чрезвычайно лестно познакомиться с настоящим писателем. А позвольте спросить…»
И начиналось. Правда, много, ужасно наврав зевавшему спутнику и наконец расставшись с ним, Гущин всегда чувствовал жестокий приступ моральной тошноты и скверный вкус в душе, но воздержаться от этих волнующих, пьянящих ощущений, вызываемых чудовищной жаждой известности, или остановиться на полпути в истерическом лганье — он не хотел, не умел, не мог.
Иногда в промежутки болтовни он случайно возвращался к мысли: «А ведь я еду наблюдать жизнь. Надо не терять времени. Подмечать каждую черту лица, каждый жест, ловить всякое меткое словечко». И усилием воли заставлял себя прислушиваться к мимолетным беседам в купе, в коридорах, на тормозах. Но говорилось все такое неинтересное…
Занял его внимание на минуту раненый поручик с офицерским «Георгием». У него вокруг глаз и на висках была разлита странная, особенная, вялая желтизна, а сами глаза, встречаясь с другими глазами, глядели не в них, а куда-то насквозь, вдаль, туда, в недавнее пережитое, — желтизна и взгляд, свойственный людям, которые в течение многих и многих дней, без сна и без пищи, терпели то, что превышает пределы даже невероятной человеческой выносливости, ежеминутно видя смерть перед глазами, ожидая ее.
Гущин все думал: «Вот, вот сейчас начнется захватывающее: визг бомб, бубуханье шрапнелей, татаканье пулеметов, знамя, пламенная, короткая, как блеск молнии, речь офицера, бешеное «ура», упоение битвы…» Ничуть не бывало. Лениво посмеиваясь, то и дело сдувая пепел папиросы себе на рейтузы, офицер говорил спутнику, серьезному, седому, бритому человеку: — А они нас за четверть версты из пулемета… Прямо передо мною, в пяти шагах… как бы тебе это передать?.. Ну, вот точно кто-то взял и стегнул через все поле огромным стальным хлыстом… Понимаешь — черта, и пыль взвилась! Я добежал. Не испугался. Нет. Какой тут испуг, когда главный ужас уже преодолен. Просто обалдел. Остановился только на секундочку. Перекрестился и скок через черту. И вперед. А вокруг шум, грохот, беспорядок. Потом оглянулся назад, на роту. Смотрю, а они все, как бараны, через ту же самую черту скок да скок. Но я обо всем этом вспомнил тогда, когда мы уже взяли окоп. Вспомнил и, лежа, захохотал. А из солдат никто этого не помнил. Впрочем, и я тоже — о том, как мы выбили их из окопа, хоть убей меня, не помню! Ну вот ни на столечко.
«Вот что значит не художник, — свысока подумал Гущин. — Никчемную мелочь запомнил, а главного не уловил».
День падает к вечеру… Жалят комары. Воздух мреет и парит. От пароходной трубы воняет машинным маслом и краской. Вот уже более шести часов Гущин слоняется одиноко по палубе. Иногда заходит в гостиную (она же столовая), в каюту, в нижнюю палубу третьего класса. Заглянул мимоходом в машинное отделение и убежал от нестерпимой жары. Скучно ему. Ни одного интеллигентного пассажира. На корме, прямо на полу, сидят кружками мужики, едят руками селедку с хлебом и луком и запивают водой, почерпнутой тут же из-за борта пароходным ведром. Разговор тяжелый, вязкий: о покосах, недоимках, пайках, о рожающих бабах, арендателях, земских начальниках, агрономах. Серый, мужичий, вперемежку с скверной бесцельной бранью, разговор, который теперь совсем непонятен, дик и противен Гущину. Тоска!
В одиннадцатом часу утра за пристанью Чисково он уже съел порционную стерлядку. Недурно, хотя и отзывает нефтью. Но на пароходе пища всегда легко утрясается и аппетит возобновляется быстро. Разве поесть? Гущин развертывает свою записную книжку, куда записывает бережно все расходы. В нем сказывается врожденный расчетливый мужицкий ум. «Бегут деньги по копеечкам, а потом хвать-похвать и сам не знаешь, куда рубли разошлись». Да и от природы Гущин скуповат. В Петрограде за даровую комнату и сто рублей в месяц он ведет книги двух больших шестиэтажных домов, зарабатывает немного у Неежмакова перепиской, дает небольшие отчеты и заметки в газету и умеет откладывать кое-что про черный день.
«Нет, — думает он, пряча со вздохом записную книжку. — Лучше попью чайку с ситным, а к вечеру видно будет».
Заря пламенеет на небе и в воде. Завтра будет ветреный день. Приречные кусты черно-зеленые. В дальней темной деревушке все стекла горят праздничным красным светом заката: точно там справляют свадьбу. Где-то в лужках или на болотах звенят ровным дрожащим хором лягушки. Воздух еще легко прозрачен.
На левом борту, на белой скамейке сидит девушка. Гущин раньше не замечал ее, и внимание его настораживается. На ней черное гладкое платье с широкими рукавами, а черный платок повязан, как у монашенки. К женщинам Гущин по природе почти равнодушен, но в обращении с ними труслив и ненаходчив. Однако он подтягивается и несколько раз проходит взад и вперед мимо девушки, заложив руки в карманы брюк, приподняв плечи, слегка раскачиваясь на каждой ноге и грациозно склоняя голову то на один, то на другой бок.
Наконец он садится рядом, кладет ногу на ногу и правую руку на выгнутую спинку скамейки. Некоторое время он барабанит пальцами и беззвучно насвистывает какой-то несуществующий фальшивый мотив. Потом крякает, снимает мешающее ему пенсне и поворачивается к девушке. У нее простое, самое русское, белое и сейчас розовое от зари лицо, в котором есть какая-то робкая, точно заячья прелесть. Она чуть-чуть курносенькая, губы пухлые, розовые, безвольные, а на верхней губе наивный молочный детский пушок.
Гущин набирается смелости и спрашивает особенным, вежливым, петроградским тоном:
— Извините меня, пожалуйста. Не знаете ли вы, какая будет следующая пристань?
— Иловня.
Название звучит у нее, как мягко взятый, высокий гитарный тон. Таким прекрасным может быть человеческий голос только вечером, в чистом воздухе, на воде.
— Благодарю вас. А вы сами далеко изволите ехать?
— В Вознесенский монастырь.
Тут только Гущин улавливает, что одежда девушки слегка пахнет воском, деревянным маслом и ладаном; запах этот вовсе не неприятен. В нем есть холод, умильная тайна и влекущая суровость. Этих тонких оттенков Гущин не постигает. Однако он человек не злой, и ему становится жаль девушку.
— Неужели, простите меня за нескромный вопрос, неужели вы монахиня?
Она слегка вздыхает, чуть-чуть улыбается и снизу вверх, сбоку, быстро взглядывает на Гущина. Глаза у нее большие, ласковые, серые, белки от отблеска зари розовые, точно девушка только что долго плакала, и это придает ее взору интимную кротость. И тотчас же она опускает ресницы. Голос ее звучит полно и мягко: