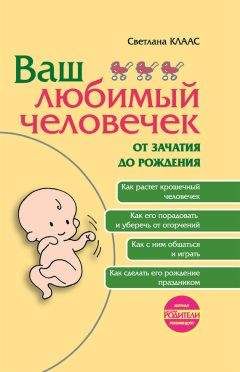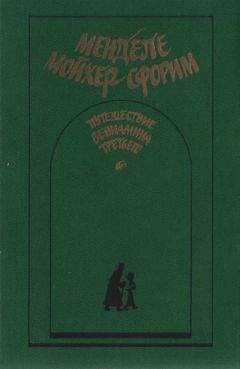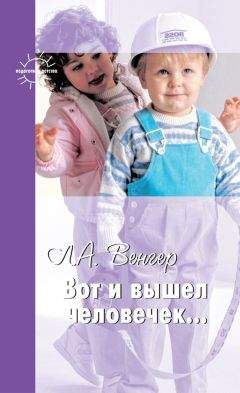Лев Толстой - Том 10. Произведения 1872-1886 гг
Когда в 1817 году на страстной — она приходилась поздно — пришло время пахать, излегощинские мужики на сходке стали толковать, пахать ли им в нынешнем году спорную землю, и, несмотря на то, что к ним постом еще приезжал от Апыхтииа приказчик с приказом не пахать земли и сходиться с князем по согласию об посеянной ржи в бывшей спорной, а теперь апыхтинской земле, мужики именно потому, что у них было посеяно в спорной земле озимое и что Апыхтин о нем хотел, не желая их обидеть, с ними полюбовно сходиться, решили спорную землю пахать и захватывать прежде всякой другой земли.
В самый тот день, как мужики выехали пахать на Берестовскую дачу в чистый четверг, Иван Петрович Апыхтин, говевший на страстной неделе, поехал рано утром в церковь села Излегощи, куда он был прихожанин, и там, ничего не зная об этом, дружелюбно беседовал со старостой церковным. Иван Петрович исповедовался с вечера и дома слушал всенощную; поутру сам прочел правила и в восемь часов выехал из дому. К обедне его ждали. Стоя в алтаре, где он обыкновенно стаивал, Иван Петрович более размышлял, чем молился, и был за то недоволен собою. Он, как и многие люди того времени, да и всех времен, чувствовал себя в неясности относительно веры. Ему было уже за пятьдесят два года, он никогда не пропускал исполнения обрядов, посещения церкви и говения раз в году; он, говоря с своей единственной дочерью, наставлял ее в правилах веры; но если бы его спросили, точно ли он верит, он бы не знал, что ответить. И в особенности нынче он чувствовал себя размягченным и, стоя в алтаре, вместо того, чтобы молиться, думал о том, как странно все устроено на свете: вот он уже почти старик, говеет, может быть, сороковой раз в жизни, и вот он знает, что все, и домашние его и все вот в церкви, все смотрят на него как на образец, берут пример с него, и он чувствует себя обязанным показывать этот пример в отношении религии, а он сам ничего не знает, и вот, вот ему уже умирать придется, а, хоть убей его, он не знает, правда ли то, в чем он другим показывает пример. И странно ему и то было, как все считают, — он это видел, — что старые люди тверды и знают, что нужно и что не нужно (так он всегда думал о стариках), а вот он и стар и решительно не знает и так же легкомыслен, как он был двадцати лет; но только прежде он не скрывал, а теперь скрывает это. Как в детстве ему приходило в голову во время службы запеть петухом, так и теперь ему такие же глупости забегают в голову, а он, старик, степенно склоняется к земле, прикасаясь старыми косточками руки к плитам пола, и отец Василий, видимо, робеет служить при нем и возбуждаем к усердию его усердием. «А если бы он знал, какие глупости у меня в голове бродят? Но грех, грех, надо молиться», — сказал он себе, когда началась служба; и, вслушиваясь в смысл ектеньи, стал молиться. И действительно, скоро он перенесся чувством в молитву и стал вспоминать свои грехи и все, в чем он каялся.
Благовидный старик, плешивый, с густыми седыми волосами, в шубе с новой белой заплаткой на половине спины, ровно шагая вывернутыми лаптями, войдя в алтарь, поклонился ему низко, встряхнул волосами и прошел за алтарь ставить свечи. Это был церковный староста Иван Федотов, один из лучших мужиков села Излегощи. Иван Петрович знал его. Вид этого строгого, твердого лица навел Ивана Петровича на новый ход мыслей. Это был один из тех мужиков, которые хотели отнять у него землю, и один из лучших, один из редких богатых, семейных хлебосевцев, которым нужна была земля и которые умели с ней управиться и было чем. Его строгий вид, его степенный поклон, его равномерная походка, аккуратность его одежды — онучи, точно чулки, облипали его ноги, и обортки симметрично скрещивались как на той, так и на другой ноге, — весь его вид как будто выражал укор, враждебность на землю.
«Да, вот я просил прощенья у жены, у Маши (дочери), у няни, у Володи-камердинера, а вот у кого надо было просить прощенья и простить их», — подумал Иван Петрович и решил попросить прощенья у Ивана Федотова после заутрени.
Так он и сделал.
В церкви было мало народа. Народ весь, по обычаю, отговел на первой и на четвертой неделе. Теперь же было только человек десять мужиков и баб, не успевших отговеть раньше, несколько старушек мужицких, причетников и дворовых апыхтинских и богатых соседей Чернышевых. Была тут старушка, родственница Чернышевых, жившая у них, и дьяконица-вдова, та самая, сына которой Чернышевы, по своей доброте, воспитали и вывели в люди и который служил теперь чиновником в Сенате. Между заутреней и обедней народу в церкви осталось еще меньше. Мужики и бабы вышли наружу. Оставались обе салопницы, сидя в уголку беседовавшие между собою и поглядывавшие на Ивана Петровича с видимым желанием поздороваться с ним и поговорить, и два лакея: его лакей в ливрее и чернышевский лакей, приехавший с старушкой. Эти оба тоже о чем-то оживленно шептались, в то время как Иван Петрович выходил из алтаря, и тотчас же, увидав его, почтительно замолкли. Еще была женщина в высокой кичке с бисерными наличниками и белой шубе, в которой она, закрывая кричавшего больного ребенка, старалась успокоить его; и еще сгорбленная старуха, тоже в кичке, но с шерстяными наличниками и белым платком, завязанным по-старушечьи, и в сером чупруне с петушками на спине, которая, стоя на коленах посередине церкви и обращаясь к старому образу между решетчатых окон, на котором висело с красными концами новое полотенце, молилась так усердно, торжественно и страстно, что нельзя было не обратить на нее внимания Не подходя еще к старосте, который, стоя у шкапчика переминал остатки свеч в комок воска, Иван Петровичостановился посмотреть на эту молящуюся старуху. Старуха молилась очень хорошо. Она стояла на коленях так прямо, как только можно было стоять прямо по направлению к образу, все члены ее были математически симметричны, ноги сзади упирались носками лаптей в каменный пол под одним и тем же углом, тело было загнуто назад, насколько позволял горб спины, руки совершенно правильно сложены под животом, голова закинута назад, и лицо, с выражением стыдливой жалостливости, сморщенное, с тусклым взглядом, прямо обращено к иконе с полотенцем. Постояв неподвижно в таком положении минуту или меньше, но какое-то твердо определенное время, она, тяжело вздыхая, отнимала правую руку, с размахом заносила ее выше кички, дотрогиваясь сложенными перстами до темени, и так же широко клала крест на живот и на плечи, и, размахиваясь назад, опускалась головой на правильно положенные на землю руки, и опять поднималась и опять делала то же.
«Вот молится, — подумал, глядя на нее, Иван Петрович, — не так, как мы, грешные; вот вера, хоть я и знаю, что она молится на свой образок, или на свое полотенце, или свой убор на образе, как и все они. Но хорошо. Ну что ж? — сказал он сам себе, — у каждого своя вера: она молится на образок, а я вот считаю нужным попросить прощенья у мужика».
И он направился к старосте, невольно оглядывая церковь, чтобы знать, кто увидит его предполагаемый поступок, в одно и то же время нравившийся ему и стыдивший его. Ему неприятно было, что старушки-салопницы, как он называл их, увидят, но более всего неприятно было, что увидит Мишка, его лакей; в присутствии Мишки — он знал его бойкий, шутовской ум — он даже чувствовал, что не в силах будет подойти к Ивану Федотову. И он поманил к себе пальцем Мишку.
— Что прикажете?
— Поди, пожалуйста, брат, принеси мне еще коврик из коляски, а то сыро ногам.
— Слушаю-с.
И когда Мишка ушел, Иван Петрович тотчас же подошел к Ивану Федотову. Иван Федотов заробел, как точно виноватый, при приближении барина. Робость и торопливость движений составляли странное противуречие с его строгим лицом и кудрявыми стальными волосами и бородой.
— Свечу прикажете десятикопеечную? — заговорил он, поднимая конторку и вскидывая только изредка своими большими прекрасными глазами на барина.
— Нет, мне не свеча, Иван. А я прошу тебя простить меня, ради Христа, если я в чем обидел. Простите, ради Христа, — повторил Иван Петрович и низко поклонился. Иван Федотов совсем заробел, заторопился, но наконец понял, усмехнулся нежной улыбкой.
— Бог простит, — сказал он. — Обиды, кажется, от тебя не видали. Бог простит, обиды не видали, — поспешно повторил он.
— Все-таки…
— Бог простит, Иван Петрович. Так десятикопеечных две?
— Да, две.
— Вот ангел, точно, что ангел. У мужика подлого и то прощенья просит. О, господи! право, ангелы, — заговорила дьяконица в черном старом капоте и черном платке. — И точно, что мы понимать должны.
— А, Парамоновна! — обратился к ней Иван Петрович. — Что? или говеешь тоже? Прости тоже, Христа ради.
— Бог простит, батюшка, ангел ты мой, благодетель ты мой милостивый; дай ручку поцеловать.
— Ну, полно, полно; ты знаешь, я не люблю… — сказал Иван Петрович, улыбаясь, и пошел в алтарь.