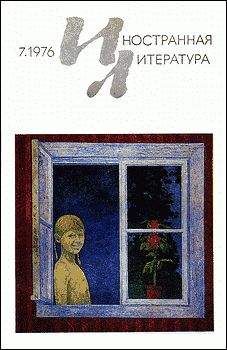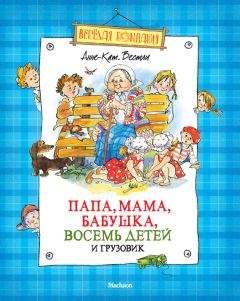Александр Фадеев - Молодая гвардия
Валя не смотрела на него и ни о чем не спрашивала.
- Наталья Алексеевна... - тихо сказал он, поняв, что Валя сердится.
Он склонился к ее уху и прошептал:
- Целая группа ребят в поселке Краснодон... Просто сами собой... Скажи Олегу...
Валя была связной от штаба. Она кивнула головой. В это время они увидели идущую по дороге со стороны "Восьмидомиков" Ульяну Громову и с ней незнакомую девушку в берете и в пальто. Уля и эта девушка, преодолевая сопротивление ветра и отворачивая лица от пыли, несли вдвоем чемодан.
- Если придется туда пойти, ты согласна? - снова шепнул Сережка.
Валя кивнула головой.
Обер-лейтенант Шприк, директор биржи, понял наконец, что молодые люди так и будут стоять за оцеплением со своими родными, если их не поторопить. Он вышел на крыльцо, гладко выбритый и уже не в кожаных трусах, как он ходил в жаркие дни у себя на бирже и по улицам, а в полной форме, вышел в сопровождении писаря и крикнул, чтобы отъезжающие получали документы. Писарь повторил это по-украински.
Немецкие солдаты не пускали родных и провожающих за оцепление. Началось прощание. Матери и дочери, уже не сдерживая себя, заплакали в голос. Ребята крепились, но страшно было смотреть на их лица, когда матери, бабки, сестры бились у них на груди и престарелые отцы, десятки лет проведшие под землей и не раз видевшие смерть лицом к лицу, потупившись, смахивали слезы с усов.
- Пора... - сурово сказал Сережка, стараясь не показать Вале своего волнения.
Она, едва сдерживаясь, чтобы не расплакаться, не слыша его, машинально двинулась сквозь толпу к бирже. Так же машинально она доставала из-под картофеля сложенный вчетверо листок и совала его кому-нибудь в карман пальто или тужурки или просто под ручку чемодана или веревку корзинки.
У самого оцепления внезапный поток людей, в панике хлынувших от биржи, оттеснил Валю. Среди провожающих немало было подростков, девушек, молодых женщин, и кто-то из них, провожая сестру или брата, случайно попал за оцепление и уже не мог выйти оттуда. Это так развеселило немецких солдат, что они стали хватать за руки первых попавшихся ребят и девушек и втаскивать их за оцепление. Поднялись крики, мольбы, плач. Какая-то женщина забилась в истерике. Молодежь в ужасе хлынула от оцепления.
Сережка, вынырнувший неизвестно откуда, с выражением страдания и гнева на лице за руку вытащил Валю из толпы прямо на Нину Иванцову.
- Слава богу... А то эти ироды... - Нина схватила обоих за руки своими крупными женственными смуглыми руками. - Сегодня в пять у Кашука... Предупреди Земнухова и Стаховича, - шепнула она Вале. - Ульяну не видели? И побежала разыскивать Улю: Нина, как и Валя, была связной от штаба.
А Валя и Сережка еще постояли некоторое время друг возле друга, - им очень не хотелось расставаться. У Сережки было такое лицо, точно он вот-вот скажет что-то очень важное, но он так ничего и не сказал.
- Я побегу, - мягко сказала Валя.
Все-таки она постояла еще некоторое время, потом улыбнулась Сережке, оглянулась, застыдилась и побежала с холма со своей корзинкой, мелькая крепкими загорелыми ногами.
Уля стояла возле самого оцепления, дожидаясь, пока Валя Филатова выйдет из здания биржи. Немецкий солдат, пропустивший Валю с чемоданом, схватил было и Улю за руку, но она спокойно и холодно взглянула на него. На мгновение глаза их встретились, и в глазах солдата мелькнуло подобие человеческого выражения. Он отпустил Улю, отвернулся и вдруг злобно закричал на белокурую молодую женщину с непокрытой головой, не отпускавшую от себя сына, подростка лет шестнадцати. Наконец женщина оторвалась от сына, и выяснилось, что угоняют не его, а ее: подросток, плача, как ребенок, смотрел, как она с узелком в руке вошла в здание биржи, в последний раз улыбнувшись сыну с порога.
Всю ночь Уля и Валя просидели, обнявшись, в маленькой, украшенной осенними цветами горенке на квартире Филатовых. Старенькая Валина мама то подходила и гладила по головке и целовала их обеих, то перебирала вещички в Валином чемодане, то тихо-тихо сидела в углу на креслице: с уходом Вали она оставалась совсем одна.
Валя, обессилевшая от слез и тоже притихшая, изредка чуть вздрагивала в объятиях Ули. А Уля с ужасным сознанием неизбежности того, что должно было произойти, размягченная и повзрослевшая, с чувством одновременно детским и материнским, молча все гладила и гладила русую Валину головку.
При свете коптилки в темной горенке только и видны были их лица и руки - двух девушек и старенькой матери.
Если бы никогда этого не видеть! Этого прощания Вали и ее мамы, этого бесконечного пути с чемоданом под свистящим ветром, этого последнего объятия перед цепью немецких солдат!
Но все это было, было... Все это еще длится... С лицом, полным мрачной силы, Уля стояла у самой цепи немецких солдат, не отводя глаз от двери биржи.
Юноши, девушки, молодые женщины, проходившие за оцепление, по приказу толстого ефрейтора оставляли на площадке возле стены свои узлы и чемоданы, говорили, что вещи будут доставлены машиной, - и входили в помещение. Немчинова под наблюдением обер-лейтенанта выдавала им на руки карточку, единственный документ, который на всем пути следования удостоверял их личность для любого представителя немецкой власти. На карточке не было ни имени, ни фамилии ее владельца, а только номер и название города. С этой карточкой они выходили из помещения, и ефрейтор ставил их на свое место в шеренгах вдоль площади.
Вот вышла и Валя Филатова, поискала глазами подругу и сделала несколько шагов к ней, но ефрейтор на ходу перехватил ее рукой и подтолкнул к строящимся шеренгам. Валя попала в третью или четвертую шеренгу, в дальний конец, и подруги больше не могли видеть друг друга.
Горе этой немыслимой разлуки дало людям право на проявление любви. Женщины в толпе пытались прорваться сквозь кордон, выкрикивали последние слова прощания или совета детям. А молодые люди в шеренгах, в большинстве девушки, уже словно принадлежали к другому миру: они отвечали вполголоса или просто взмахом платочка, или молча, с бегущими по лицу слезами, смотрели и смотрели на дорогие лица.
Но вот обер-лейтенант Шприк вышел из помещения с большим желтым пакетом в руке. Толпа притихла. Все взоры обратились на него.
- Still gestanden! [Смирно! (нем.)] - скомандовал обер-лейтенант.
- Still gestanden! - повторил толстый ефрейтор ужасным голосом.
В колонне все замерло. Обер-лейтенант Шприк шел перед первой шеренгой и, тыкая плотным пальцев в каждого переднего из стоящей друг другу в затылок четверки, пересчитал всех. В колонне было свыше двухсот человек.
Обер-лейтенант передал пакет толстому ефрейтору и махнул рукой. Группа солдат кинулась расчищать дорогу, запруженную толпой. Колонна по команде ефрейтора повернулась, заколыхалась и медленно, словно нехотя, тронулась по дороге в сопровождении конвойных, с толстым ефрейтором впереди.
Толпа, оттесняемая солдатами, хлынула по обеим сторонам колонны, и вслед за нею плач, вопли и крики слились в один протяжный стон, разносимый ветром.
Уля, на ходу приподымаясь на цыпочках, все пыталась разыскать Валю в колонне и наконец увидела ее.
Валя, с широко открытыми глазами, опиралась по сторонам колонны, ища подругу, и в глазах Вали было выражение муки оттого, что в последнюю минуту она не могла увидеть Улю.
- Я здесь, Валечка, я здесь, с тобой!.. - кричала Уля, оттесняемая толпой.
Но Валя не видела и не слышала ее и все оглядывалась с этим мучительным выражением.
Уля, все более оттесняемая от колонны, несколько раз еще увидела Валино лицо, потом колонна за зданием "бешеного барина" спустилась ко второму переезду, и Вали не стало видно.
- Ульяна! - сказала Нина Иванцова, внезапно возникшая перед Улей. - Я тебя ищу. Сегодня в пять у Кашука... Любка приехала...
Уля, не слыша, молча смотрела на Нину черными, страшными глазами.
Глава сороковая
Олег, чуть побледнев, вынул из внутреннего кармана пиджака записную книжку и, сосредоточенно листая ее, присел к столу, на котором стояли бутылка с водкой, кружки и тарелки без всякой закуски, и все, смолкнув, с серьезными лицами, тоже присели: кто к столу, кто на диван. Все молча смотрели на Олега.
Еще вчера они были просто школьные товарищи, беспечные и озорные, и вот с того дня, как они дали клятву, каждый из них словно простился с собой прежним. Они словно разорвали прежнюю безответственную дружескую связь, чтобы вступить в новую, более высокую связь - дружбы по общности мысли, дружбы по организации, дружбы на крови, которую каждый поклялся пролить во имя освобождения родной земли.
Большая комната в квартире Кошевых, такая же, как во всех стандартных домах, с некрашеными подоконниками, обложенными дозревающими помидорами, с ореховым диваном, на котором стелили Олегу, с кроватью Елены Николаевны со множеством взбитых подушек, покрытых кружевной накидкой, - эта комната еще напоминала им беспечную жизнь под родительским кровом и в то же время была уже конспиративной квартирой.