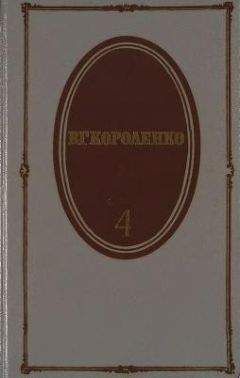Владимир Короленко - Том 7. История моего современника. Книги 3 и 4
Из Красноярска мы выехали с попутчиком, сослуживцем моего зятя. Я полюбовался тюремным замком, в котором когда-то сидел под начальством Ржевского.
Мы приближались к Томску, то есть культурным пределам Сибири. В Томске было в то время две либеральных газеты. Одну из них издавал Корш, работавший раньше в Славянской книгопечатне у И. В. Вернадского. Он напечатал когда-то письмо Засулич, наделавшее много шуму. Этот самый Корш совершил легкомысленную растрату, был судим и сослан в Томск. Его отец поддержал его в его профессии, и таким образом в Томске появилась новая либеральная газета. Другой газетой, также либеральной, руководил Феликс Вадимович Волховской.
Проездом через Казань я повидался с Анненскими, которые там жили втроем: Николай Федорович, Александра Никитишна и их племянница. Они тоже немало пространствовали в ссылке. Анненский занимал должность заведующего статистикой (она входила тогда в моду). У Анненского выходили уже неудовольствия, приведшие к тому, что ему привилось впоследствии расстаться с Казанью. Он был все такой же веселый, она все такая же солидная. Мы встретились очень дружески.
В Казани же жил брат мой с группой студентов, среди которых был глазовец Чарупшиков.
Анненский снабдил меня письмом к Гацисскому, жившему в Нижнем Новгороде, и, пробыв всего один день в Казани, мы тронулись дальше вверх по Волге. Всю ночь мимо нас мелькали сумрачные горы… Под утро я увидал, что находимся на въезде… В уровень с водой большими буквами было написано: «Чаль за кольца, решетку береги, стены не касайся»… Это был Нижний.
Мы поднялись по въезду и остановились против громадного здания, бывшего против реки, которая лежала еще в сумраке. На ней стояли зазимовавшие баржи и пароходы. Это оказалась гостиница, в которой мы и остановились. Здание было почти пустое. С реки доносились порой сторожевые крики.
На следующий день я пошел познакомиться с городом. Он расположен по горам и очень своеобразен. Нам надо было озаботиться выпиской родных, для чего было решено, что поеду я.
Я приехал в Петербург рано поутру. Мне советовали, чтобы я прямо с вокзала проехал в градоначальство. Я так и сделал. Здесь я застал характерную сцену. Просители, какие-то известные богачи-евреи, ходатайствовали, чтобы им было разрешено остаться на несколько дней в Петербурге. Градоначальник резко возражал, причем я слышал: «Нар-род эксплуатировать!» Я ждал, что меня градоначальник тоже примет резко… Но оказалось наоборот. Я был принят любезно, он согласился на все мои просьбы и разрешил мне пробыть в Петербурге «сколько мне угодно». Я задумался об этой перемене, и мне вспомнился глазовский способ разрешения еврейского вопроса.
В тот же день я был уже на квартире Никитина (фамилия зятя). Ко мне и к зятю собрались знакомые, и мы начали обдумывать отъезд.
Через несколько дней мы выехали и через сутки были в Москве. Авдотья Семеновна Ивановская нас встретила по старому знакомству на вокзале, и мы отправились вместе на Нижегородский вокзал, но по пути остановились на Садовой, в гостинице. Хозяева и прислуга, зная, что мы возвращаемся из ссылки, держали себя очень любезно, что нас прямо поразило. Заметна была прямо перемена в настроении.
Я заехал в редакцию журнала «Русская мысль» и узнал, что мой «Сон Макара» принят. Там я познакомился с редактором, Вуколом Михайловичем Лавровым, заметно в нем было купеческое происхождение, он был очень добродушен и полон. Второй редактор, Гольцев, сразу кидался в глаза лукавством и был человек хитрый. Был еще третий член редакционной коллегии Ремезов. Этот последний был Вуколу Михайловичу подсунут цензурным ведомством, которое согласилось утвердить Лаврова редактором лишь на том условии, чтобы член цензуры Ремезов был третьим редактором. Лавров согласился.
Таким образом, мои литературные дела были устроены, и, отправляясь на Нижегородский вокзал, я мог считать мою литературную карьеру начатой. Мы весело отправились на вокзал, кстати, и день был зимний, но радостно-яркий. Авдотья Семеновна Ивановская проехала с нами две станции и вернулась в Москву.
На следующий день мы были в виду нижегородских гор. Вот и так называемый Похвалинский съезд. Мы переправились через Волгу и весело поднялись на горы.
Я ехал с матерью. Она рассматривала новое местожительство. Только в одном месте ее лицо омрачилось. Перед нами была Варварка, прямая улица, завершавшаяся тюрьмой.
— Опять! — сказала мать.
— Ничего, — возразил я. И действительно, казалось бы «ничего». Я только что приехал в новое место. Еще ничего не успел сделать не только предосудительного, но и вообще ничего.
Весело водворились мы на новой квартире — скромной и даже очень скромной, состоявшей из одной комнаты, перегороженной пополам, и зажили по возможности весело. Сразу приобрели знакомство, разумеется среди неблагонадежных, сходили в публичную библиотеку и так далее.
А между тем моя таинственная неблагонадежность уже действовала, и ее последствия уже готовились.
И вот в один, нельзя сказать чтобы прекрасный, вечер ко мне нагрянула полиция… Перепугали семейных.
Мать была страшно удивлена, да и я также. Меня перетащили в тюрьму, благо было близко. Тюрьма была полна. Недавно здесь в ярмарку разразились антиеврейские беспорядки, было несколько убитых. Это был результат новой антиеврейской политики, закончившейся уже в наши дни «делом Бейлиса», Мне сразу пришлось наткнуться на страшный холод, против которого я запротестовал, так что мне пришлось вступить в конфликт с тюремным начальством.
Через некоторое время ко мне в камеру перевели какого-то нечестивца из антиевреев. Я протестовал и против этого. Нечестивец отправился в холодное помещение, а я — в теплое.
На следующий день я с ним увиделся на прогулке. Это был человек очень добродушный, не питавший против меня никакого неудовольствия. Он рассказал мне, что оправдали только тех, кто имел возможность выписать «Правыку» (так, очевидно, перефразировалась фамилия Плевако). Он не имел этой возможности и должен идти на каторгу. На следующий день я написал массу протестов и потребовал прокурора, но это не подействовало. И мне пришлось еще два дня или три прогуливаться с моим «Правыкой».
Наконец меня повезли обратно в Москву и дальше в Петербург. Всюду, где я мог, я протестовал, но на это не обращали внимания: «Вот приедете на место». Но мне некогда было ждать приезда на место, мне вспоминалась мать, и я нервничал. Мне вспоминается генерал или полковник Середа и как он меня успокаивал: «Не виновны, так все это обнаружится». Но я по собственному опыту знал, как скоро это обнаруживается. Поэтому я протестовал везде, где мог.
Наконец меня привезли в Петербург и прямо в предварительное заключение. Я подал еще один протест и, должно быть, надоел, так что дело двинулось быстро.
Когда меня привезли в дом предварительного заключения и за мной захлопнулась дверь, я остановился посредине камеры и оглянул ее стены. Вот я объехал почти вокруг света и очутился на том же месте. Это доказывает, что Россия за это время не подвинулась ни на шаг, несмотря на многочисленные жертвы. Те же дома предварительного заключения, те же жандармские управления, что и были… Чем же это кончится?..
Вдобавок, когда меня привезли и ввели в жандармское управление, я там застал того же штабс-ротмистра Ножина, который арестовал меня в первый раз. Когда я напомнил ему об этом, он ответил:
— Не припомню, — заметив, вероятно, в голосе моем иронию.
Наконец мне предъявили обвинение. Это было письмо, написанное почерком, довольно похожим на мой, и поэтому я сразу не мог отрицать, что письмо это писано не мной. Я потребовал предъявления всего письма, и мне его дали.
В нем сообщались революционные похождения какого-то юноши, который писал своей знакомой девице, что он в своей поездке по такому-то уезду покрыл этот последний сетью нелегальных организаций и пр. Подпись была: Вл. Корол.
— Это не вы писали? — спросил меня неизвестный господин, стоявший сзади меня. (Я потом узнал, что это был прокурор Котляревский.)
— Не я! — ответил я сердито.
— Я так и знал, — сказал он, — и им говорил то же.
— Почему же вы это утверждали? — спросил я, заинтересованный категорическим заявлением незнакомца.
— Видите ли, я читал вашу переписку с Григорьевым, ну а это письмо, согласитесь, слабо написано, зелено…
— И это не помешало вам притащить меня в дом предварительного заключения, сделать у меня обыск, испугать семейных.
Ножин был сконфужен, но сдался не сразу. Он потребовал, чтобы я формально ответил на вопросы и написал, что письмо принадлежит не мне… Так как дело было сшито белыми нитками, то нужно было выполнить только некоторые формальности. Но меня впредь до выполнения их снова препроводили в дом предварительного заключения. На этот раз я вступал в него в другом настроении, чем раньше, и даже довольно весело.