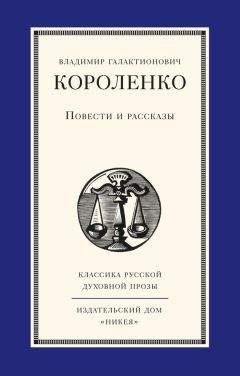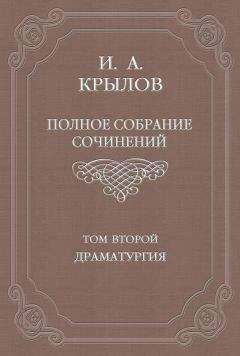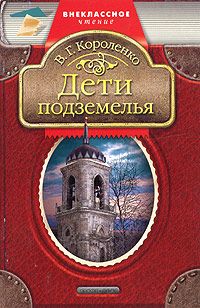Иван Крылов - Полное собрание сочинений. Том 1. Проза
Кто может из нас, милостивые государи, похвалиться таким изобилием мыслей? Кто, кроме нашего бесценного Ермалафида, так много раз и в столь разных порядках может раскладывать наши тридцать две литеры на бумаге? – Конечно, никто! – Он один только в состоянии с такою легкостию кстати о Гомере напомнить, что дрова дороги, и, хваля Юнговы Нощи{145}, заметить, что немцы обуваются щеголеватее французов. Он один только может с таким плодословием волочить надежду читателя через триста листов и на последней странице удивить его приятною нечаянностию, подписав: конец! – Cue non plus ultra{146} его обширного воображения. Но как, спросят меня, мог он достигнуть до такого богатства? Какими орудиями открыл такое сокровище? Предмет, поистине достойный вашего любопытства и который исследовать ставлю я моею должностью.
Если б обратились мы к древности, то бы нашли, может быть, что не герой наш первый изобретатель сего редкого искусства, но судьба, кажется, из зависти прячет от взора смертных лучшие их сокровища. И потому-то произведения пера, подобного Ермалафидову, столь же редки, как календари прошедших веков. И вот причина, заставляющая меня признавать его изобретателем сего способа. Ибо кому мог он подражать, не читая никого, как то скоро увидите вы из шествия его ума, коего пути осмелился я исследовать в сем слове и представить для подражания молодым нашим собратиям, которые, имея великие способности, ожидают только случая, кому последовать, и, за недостатком резких подлинников, принуждены с великим трудом отыскивать погрешности у Ломоносова и их выкрадывать или занимать их у Сумарокова. Но теперь я намерен для сего указать им неисчерпаемый источник в Ермалафиде и, дабы удовольствовать ваше любопытство, обращаюсь к моему предмету.
Едва минуло от роду пятнадцать лет нашему герою, как отдан он на руки учителям и посажен за российскую азбуку. Пламенный дух его недолго оставался при первых затруднениях, и менее недели через 2 года зачал он писать азы. В сем-то случае творческий дух его оказал первые свои способности! Ермалафид никому не подражал в почерке; умнейшие из учителей не различали у него аза от мыслетей казалось, что он, не читав никакого письма в свете, выдумал свою азбуку; учители сперва приписали это тупому его понятию, и вот причина, что редкий ум нашего героя четыре года задержан за российскою азбукою. Наконец приметили они, что он поставил себе правилом никому не следовать и систематически водить каракули. Тогда-то, сделав безошибочное заключение в его великих способностях к словесности, дали они ему в руки грамматику – и менее нежели в месяц не осталось в ней ни листа живого – он просил новой книги. «Разве ты всю грамматику выучил?» – спрашивали у него. «Нет, – отвечал неоцененный герой, – но, поверьте, что я и без грамматики могу пощеголять моим слогом». У него потребовали опыта, и в один час – в один только час он написал столь красноречивое письмо, что премудрейшие из учителей его не поняли. Это убедило их, и они представили ему логику. «Что это за наука?» – спрашивал восторжествовавший над грамматикою герой. «Наука мыслить, – отвечали ему, – и важная тайна поместить кстати ergo{147}». – «Мне не нужна эта наука, – говорил Ермалафид, – двадцать лет думал я без логики, так неужели достальную половину своего века не возмогу без нее обойтись?» Возражение сильное, коему никто не осмелился противоречить. Настала очередь риторике явиться на суд героя. Он развернул ее, прочел строк пятнадцать, зевнул, почувствовал сильную наклонность ко сну и отложил до завтра решение о сей науке. На другой день повел он учителей в свою библиотеку и указал им на полку, заваленную романами. Там наслаждались ненарушимым покоем творения Вредина, покровенные пылью, равнолетною им самим; там почивали мертвым сном томные произведения Антирихардсона; в другом месте глотали пыль герои, произведенные подражателем Руссовым. «Есть ли тут риторика?» – спросил Ермалафид, указывая на все это собрание. Учители читали все сии романы и согласились единодушно, что в них риторики нет. Он сделал им тот же вопрос о груде журналов: они их знали и принуждены были по совести сказать, что в них имени красноречия нет. После сего показал он им связку од – и они признались, что здесь большею частью пишутся оды без красноречия. «Когда такое множество людей пишут без риторики, – отвечал он гордо, – то неужели думаете вы, что я всех их глупее и не могу без нее обойтись? Поверьте, что мне не нужна эта наука; и я откровенно скажу вам, что я, и знавши риторику, не написал бы ни на волос лучше того, как писал, и стану писать, не зная ее ни строчки».
После сего несравненный Ермалафид с такою же благородною гордостию отвергал все другие науки одну по одной. «Когда я буду читать, то когда ж писать останется мне время? Нет, я намерен учить, а не учиться. Для меня низко узнавать, что другие думали: я хочу лучше, чтоб целый свет, читая меня, старался отгадать, что я думаю. Довольно долго страдала республика ученых, стесненная правилами: я родился их разрушить, и для того-то хочу развязать своим примером молодые умы; хочу писать без правил и доказать на самом деле, что словесность есть свободная наука, не имеющая никаких законов, кроме воли и воображения». С такими-то прекрасными правилами герой наш вступил в поприще писателей и, чтобы начать чем-нибудь знаменитым свои подвиги, написал он трагедию.
Доныне, милостивые государи, жалко было видеть с каким бесчеловечием проливалась кровь в трагедиях; жестокие авторы, кажется, только с тем намерением заманивали в партер, чтобы у всякого из них испортить фунта по три крови – но какая приятная новость! Едва появилась трагедия нашего героя на сцену, то, казалось, что в партере сидит целый народ строгих стоиков: толико-то глубокое спокойствие царствовало во всем партере. Зрители не были возмущены ни страхом, ни жалостью, ни ненавистью; казалось, что герои Ермалафида превыше всех страстей; ни одной не было в них приметно, и если бы глухому показать столь прекрасное зрелище, то бы, конечно, он подумал, что греческие мудрецы с театра преподают партеру курс математики. Не подумайте, однако ж, милостивые государи, чтобы трагедия нашего героя не привлекала внимания! Напротив того, нередко партер надрывался от смеха, и Ермалафид, бесценный Ермалафид сам смеялся от радости, видя, что трагедия его производит такое прекрасное действие. «Начав трагедию, – говорил он, – я хотел утешить, а не встревожить и не опечалить партер», – прекрасное правило, коему последовали многие писатели, и с того-то времени, милостивые государи, у нас начали писать столь же шутливые трагедии, как итальянские оперы буффо. Сей успех еще ободрил более нашего героя, и он решился продолжать со славою свои подвиги в письменном свете.
Давно уже грозился он прибрать комедию к своим рукам; давно с неудовольствием видел, что гордые комические писатели стараются смешить партер, не заботясь о том, понимает ли их парадиз. Такое пренебрежение его тронуло, ибо он сам часто глядывал комедию из райка и чувствовал, сколь обидно честному человеку слушать два часа, не понимать ни слова и платить деньги только за то, чтобы видеть, как другие смеются. «Партер довольно посмеялся, – сказал он некогда: – теперь хочу я утешить парадиз», и начал писать. Менее нежели через две недели объявляют новую комедию: зрителей стекается множество, открывают занавес, и – какое приятное удивление! – на сцене появляется целый народ в лаптях, в зипунах и в шапках с заломом – в парадизе раздались радостные восклицания. Сапожники, разносчики, каменщики – все узнавали на сцене своих земляков. Тогда-то всеобщее веселие разлилось по театру; на сцене появились фляжки и ендовы; в парадизе зазвенели рюмки и стаканы. На сцене заплясали – и весь парадиз зачал прищелкивать; казалось, что сцена и парадиз составляют одно семейство. Тогда-то гордый партер в первый раз почувствовал, что он в сей беседе лишний; что он не понимал в свою очередь ни слова изо всего, что переговорено в три часа; и что, наконец, в свою очередь, заплатил он деньги за то, чтобы послушать, как хохочет парадиз. Но кто же бы, думали вы, милостивые государи, загнал расчесанный партер в растрепанную крестьянскую шайку слушать нравоучения? – Кому, кроме бесценного нашего Ермалафида! Он один в состоянии высокое нравоучение подстроить под балалайку, и под его только разумные рассуждения могут плясать мужики на барках. Завидливая критика не умедлила на сие вооружиться; кричали, что расслабляется вкус, истребляется благопристойность, но вся небритая часть была на стороне нашего героя и, утвердя его славу, включила в число знаменитейших дней тот день, в который для бородатых зрителей выставлены на сцену бородатые актеры{148}.