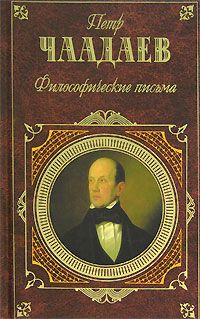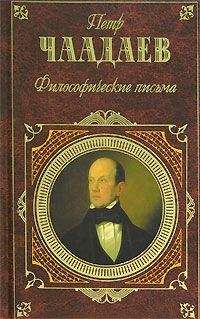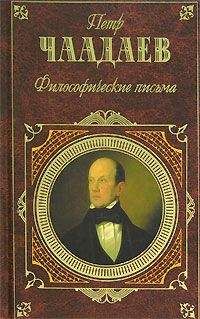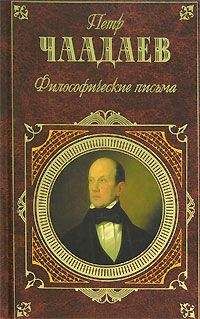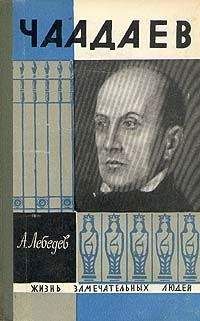Петр Чаадаев - Философические письма (сборник)
А что же Пушкин? Реалист Пушкин, прекрасно изучивший как на личном опыте, так и на опыте далекой и близкой истории все слабости человеческой натуры, должен был скептически отнестись к идее «царства божия на земле». В последовательном движении различных эпох он видел не поступательное развитие, а лишь изменение социальных оболочек, не затрагивающее корней человеческой сущности, не разрешающее, а, наоборот, усложняющее ее противоречия. Казался ему «совершенно новым» и такой взгляд на историю, когда христианство сводится к католицизму, а последний выступает в качестве универсальной силы мирового прогресса. Не анализируя этот взгляд, Пушкин передавал в письме Чаадаеву общее впечатление от его рукописей и делал отдельные замечания. «Все, что вы говорите о Моисее, Риме, Аристотеле, об идее истинного бога, о древнем искусстве, о протестантизме – изумительно по силе, истинности или красноречию. Все, что является портретом или картиной, сделано широко, блестяще, величественно»[466]. Вместе с тем поэт отказывался видеть единство христианства в католицизме. «Не заключается ли оно в идее Христа, которую мы находим также и в протестантизме?»[467] Поэт не мог согласиться и с всецело отрицательным отношением мыслителя к Гомеру, Марку Аврелию, вообще к античной культуре, что естественно вытекало из преувеличения роли католического начала в созидательном развитии западного общества.
Что же касается собственно русской истории, то здесь у Пушкина еще больше возражений, которые он выразил после публикации «телескопского» письма за несколько месяцев до смерти в неотправленном послании к Чаадаеву. Поэт решительно опровергал бездоказательный вывод этого письма об исторической ничтожности России. «Войны Олега и Святослава и даже отдельные усобицы – разве это не жизнь, полная кипучего брожения и пылкой и бесцельной деятельности, которой отличается юность всех народов? Татарское нашествие – печальное и великое зрелище. Пробуждение России, развитие ее могущества, ее движение к единству (к русскому единству, разумеется), оба Ивана, величественная драма, начавшаяся в Угличе и закончившаяся в Ипатьевском монастыре, – как, неужели все это не история, а лишь бледный и полузабытый сон? А Петр Великий, который один есть целая всемирная история! А Екатерина II, которая поставила Россию на пороге Европы? А Александр, который привел нас в Париж? и (положа руку на сердце) разве не находите вы чего-то значительного в теперешнем положении России, чего-то такого, что поразит будущего историка?»[468]
Не согласен Пушкин и с мыслью Чаадаева о «нечистоте источника нашего христианства», заимствованного из Византии и направившего русскую историю не по западному пути. Но что мы заимствовали, спрашивал он автора философических писем? «У греков мы взяли евангелие и предания, но не дух ребяческой мелочности и словопрений. Нравы Византии никогда не были нравами Киева. Наше духовенство, до Феофана, было достойно уважения, оно никогда не пятнало себя низостями папизма и, конечно, никогда не вызвало бы реформации в тот момент, когда человечество больше всего нуждалось в единстве».[469]
Вопреки Чаадаеву, в разделении церквей, которое отъединило нас от остальной Европы, Пушкин видел наше особое предназначение. «Это Россия, это ее необъятные пространства поглотили монгольское нашествие. Татары не посмели перейти наши западные границы и оставить нас в тылу. Они отошли к своим пустыням, и христианская цивилизация была спасена. Для достижения этой цели мы должны были вести совершенно особое существование, которое, оставив нас христианами, сделало нас, однако, совершенно чуждыми христианскому миру, так что нашим мученичеством энергичное развитие католической Европы было избавлено от всяких помех».[470]
Возражения Пушкина сходны с теми, какие делали Чаадаеву в московских салонах его друзья-противники славянофилы. Несомненно, что поэт повлиял на подвижность и «перевертывание» логики в системе исторических рассуждений мыслителя. И к концу жизни Пушкина роли учителя и ученика в известной степени переменились.
Не соглашаясь с оценкой Чаадаевым русского прошлого в первом философическом письме, Пушкин был согласен со своим другом в критике настоящего. Он одобрял высказанное им мнение о равнодушии к долгу, справедливости и истине, о циничном презрении к человеческой мысли и достоинству в современном обществе. Поэт и сам восторгался далеко не всем, что видел вокруг себя: он раздражен как литератор, оскорблен как человек с предрассудками."…Но, – заверял Пушкин Чаадаева, – клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам бог ее дал»[471]. Таково было «последнее слово» (выражение Чаадаева) поэта к мыслителю.
4
В одном из писем к Пушкину Чаадаев замечал, что «эгоизм поэзии» должен найти опору в «недрах морального мира». Это типичный для Чаадаева ход рассуждений, отражающий и в области эстетики, литературы воздействие «одной мысли», подчиненность искусства нравственному идеалу. Творчество неразрывно связано, по его представлению, с различными проявлениями бытия единым довременным источником. Он писал, что «при всей беспредельности нашей творческой мощи в искусстве оно все же подчинено и здесь некоторым началам, которые тоже не нами изобретены, которые существовали ранее всего нашего творчества, которые, как все вечные истины, воздействовали на нас задолго до того, как мы их осознали.
Идея красоты не была порождена человеком, как и всякая другая истинная идея, он нашел ее запечатленной во всем творении, разлитой вокруг него в тысячах разнообразных форм, отраженной неизреченными чертами на каждом предмете в природе; он постиг ее, присвоил себе, и из этого благодатного начала он излил на мир все то множество творческих произведений, то возвышенных, то чарующих, которыми он населил мир фантазии, которыми украсил поверхность земли».[472]
Идея красоты, как и все другие в системе размышлений Чаадаева, служит свидетельством божественного откровения: «Бог создал красоту для того, чтобы нам легче было уразуметь его»[473]. А разумение бога для него, как известно, есть уяснение вмешательства «божественного промысла» в бытие природы и духа, понимание религиозно-прогрессистского направления и смысла исторического процесса. Красота в искусстве для Чаадаева неотделима от истины и добра, а художник в своем творчестве является как бы проводником людей на пути к «царству божию на земле», прозревающим сквозь поверхностную сиюминутную значимость знаменательные вехи на этом пути.
Развивая свои мысли применительно к литературе, Чаадаев замечал, что подобную миссию не способны выполнить так называемые новинки – «шум в письменном виде»; более того, в популярных «произведениях каждого дня» за кажущейся актуальностью нередко обнаруживается зияющая пустота. Подлинная литература, как он считал, должна быть исторически и нравственно объемной, то есть видеть в современных явлениях не только злобу дня, но и влияние традиций, ростки будущего, соответствие или несоответствие высоким целям совершенствования человеческого бытия. Только тогда создается настоящее произведение искусства, преодолевающее время и не теряющее своего значения от быстротечной смены преходящей злободневности.
Подобное произведение искусства – и здесь Чаадаев подчеркивал его активную воспитательную роль – мощно воздействует на сознание человека, направляя его внимание на вечные ценности."…Всякое художественное произведение есть ораторская речь или проповедь, в том смысле, что оно необходимо в себе заключает слово, через которое оно действует на умы и на сердца людей, точно так же как проповедь или ораторская речь. Потому-то и сказал когда-то, что лучшие католические проповеди – готические храмы и что им суждено, может быть, возвратить в лоно церкви толпы людей, от нее отлучившихся».[474]
Отмеченные черты искусства как существенного вспомогательного элемента в развертывании «одной мысли» Чаадаев выделял в отрывке «О зодчестве», где он находил, несмотря на разницу более чем в тридцать веков, нечто общее между египетской и готической архитектурой. Это сближение, уточнял он, «до известной степени неизбежно вытекает из той точки зрения, с которой мы с вами условились рассматривать историю человечества» и с которой «история искусства – не что иное, как символическая история человечества». Находя в пластической природе сравниваемых стилей вертикальную линию, Чаадаев подчеркивал в них «характер бесполезности или, вернее, простой монументальности». Но в этой «прекрасной бесполезности» он видел свою особую пользу. И пирамида, и собор, представлявшиеся ему «чем-то священным, небесным», служат выражением «нравственных нужд» человека, заставляют «вас поднять взор к небу». И кто знает, «может быть, наконец, светозарный луч, исходящий от вершины памятника, пронижет окружающий вас мрак и, осветив внезапно путь, вами пройденный, изгладит темный след былых ошибок и заблуждений! Вот почему стоит перед вами этот гигант»[475]. И, конечно же, в своих сравнениях Чаадаев не может не сделать вытекающий из его размышлений по любому поводу глобальный философско-исторический вывод: «Скажите, не воплощается ли здесь вся история человеческой мысли, сначала устремленной к небу в своем природном целомудрии, потом, в период своего растления (имеется в виду античность. – Б. Т.), пресмыкавшейся в прахе и, наконец, снова кинутой к небу всесильной десницей спасителя мира!.. Таким образом, египетское искусство и готическое искусство действительно стоят на обоих концах пути, пройденного человечеством, и в этом тождестве его начальной идеи с тою, которая определяет его конечные судьбы, нельзя не видеть дивный круг, объемлющий все протекшие, а может быть, и все грядущие времена».[476]