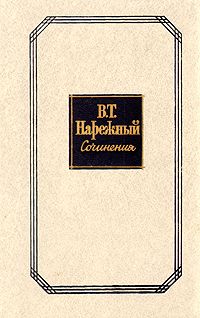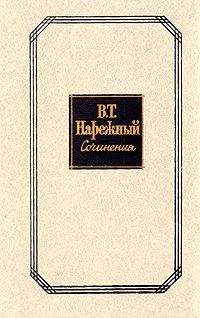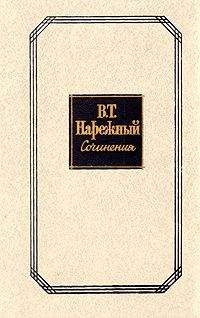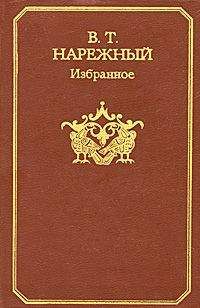Василий Нарежный - Том 2. Романы и повести
Раиса и Лидия, тронутые, восхищенные до глубины сердец такою неожиданною добротою, вторично пали к ногам ее; слезящая мать произнесла свое благословение, и они с чувством детской любви и благодарности пали на грудь ее, орошая ее слезами умиления.
Глава VII Новые ударыКогда сердца их несколько облегчились и мать с дочерьми выдумывали средства, как бы помирить между собою пана Харитона и обоих панов Иванов, вошедшая клюшница повестила, что дьячок Фома дожидается их в большой горнице с письмом из Полтавы. Все сердечно обрадовались, тем более что с самого отъезда Харитонова из дому не было об нем ни малейшего слуха. Они побежали к грамотею; Анфиза обласкала его, попотчевала; он разломал печать и вслух прочел:
«Жена Анфиза и дети: Влас, Раиса и Лидия! Всем желаю здравствовать.
Было бы вам известно, что полтавский полковник не умнее миргородского сотника, а члены полковой канцелярии нахальнее, злобнее, прижимчивее, чем члены сотенной. Возможно ли? Они присудили, чтобы за бесчестие, причиненное мною при множестве свидетелей писцу Анурию, — великое подлинно бесчестие для канцелярского писца получить нисколько ударов дубиною в спину от урожденного шляхтича, — заплатил я двести злотых! Да если бы я и до смерти убил негодяя Анурия, то нельзя требовать больше за сие увечье, как разве двадцать или тридцать злотых. Выслушав таковое нелепое решение, я твердо отрекся от исполнения, и бездушники определили отдать ему в вечное и потомственное владение мой хутор с крестьянами и со всеми угодьями. Правду сказать, что с тех пор, как начал я позываться с Иванами Зубарем и Хмарою, это имение мне опротивело по близкому соседству с их имениями. Однако ж, чтоб не ударить себя лицом в грязь, чтобы не остыдить столь почтенного имени, какое приобрел я и от самых врагов своих, имени завзятого[34], то теперь же отправляюсь в Батурин, где до последнего издыхания намерен позываться в войсковой канцелярии с полковою и сотенною. Скорее соглашусь видеть вас в рубищах, босых, протягивающих руки для испрошения куска хлеба или даже умирающих с голода, чем поддамся моим злодеям. Когда Фома читает вам эти строки, то знайте, что я уже в Батурине. Прощайте! будьте здоровы!
Харитон Заноза».
Мать и обе дочери побледнели, а у дьячка Фомы пучок стал дыбом. Они смотрели друг на друга мрачными, помертвелыми глазами; груди у женщин сильно волновались, и каждый перевод духа был так тяжел, что казался последним вздохом. Дьячок прежде всех оправился; да и естественно. Хотя он сердечно предан был пану Харитону, но все же не был ему ни брат, ни друг — дружба между достаточным паном и сирым дьячком! И потеря первым хутора, единственного имущества, которым содержал он дом в Горбылях и жил благопристойно с своим семейством, не лишала последнего ни одной полушки из обыкновенных его доходов.
— Слава богу! — воззвал Фома, обратясь к образам и перекрестясь трижды, — слава богу! Теперь-то конец всем позывам! На решение войсковой канцелярии, каково бы оно ни было, некуда уже делать переноса. Утешься, печальная Анфиза! Раиса, Лидия, перестаньте плакать! Правда, с потерею хутора вы должны во многом себя ограничить; но это в существе ничего не значит. Начиная от моего блаженной памяти прадеда дьяка Максима, до меня, нижайшего дьячка Фомы, никто не имел более имения, кроме низменной хаты и небольшого огорода, в коем отличнейшими произрастениями были тютюн и несколько вишневых дерев, а припомните, видали ль вы когда меня печальным; по мне же прошу заключать и о моих предках. Так-то и с вами будет. Оставя хутор в стороне, у вас остается еще этот просторный дом, большой сад, три хаты крестьян и довольное количество земли. Если пан Харитон вместо позыванья займется хозяйством и чаще посещать будет свое поле, чем домы беспутных друзей, то жизнь ваша потечет в покое и довольстве.
Сии слова велемудрого Фомы ободрили несколько унылые души сетующих, и они дали слово ждать конца начатым затеям с христианским терпением, причем просили навещать их сколько можно чаще и не оставлять благими советами. Скоро советы сии были им весьма нужны; ибо — хотя добрая Анфиза и милые дочери ее из письма Харитонова знали уже участь своего хутора, однако не могли удержаться от горьких слез и тяжких вздохов, когда впервые услышали, что сие имущество законным порядком отдано писцу Анурию, который тогда же и вступил во владение оным. Дьячок Фома сделался как бы дворецким, в доме Анфизы. Он увещевал и домашних служителей и сельских крестьян как можно меньше есть и пить, дабы безбедно прожить до нового хлеба. Когда же один старик спросил:
— Для чего же ты, честной дьячок, за панским столом кушаешь и попиваешь за троих?
— Друг сердечный, — отвечал Фома с набожным видом, — если я увещеваю сохранять строгую умеренность, то разумею время, когда вы садитесь за стол у себя дома; если же по воле господней случится кому-либо из вас быть приглашену в гости к приятелю другого панства, о! тогда можете, даже обязаны насыщать чрева свои, елико возможно.
Глава VIII Задачливые делаМеж тем как Анфиза и ее дочери мало-помалу привыкали к новому роду жизни и от чистого сердца благодарили бога, что он не совсем их оставил и наказал милостивее, нежели как заслужили они за свои грехи и беззакония домовладыки, в жилищах обоих панов Иванов происходила суматоха, беспрерывные ворчанья и явные упреки жен, что мужья невременным появлением своим пред своими сыновьями повергли их в погибель, и все это вместе составляло для друзей истинное мучение; даже сон их возмущаем был страшными видениями. Они не упустили в целом селе обойти до одного дома шляхтичей и крестьян, везде высматривали, везде выспрашивали об участи сыновей своих, но нигде ничего не видали, нигде ничего не слыхали относительно сего предмета. Когда возвращались они в домы с пасмурными лицами, а нередко и со слезами на глазах, то жены обыкновенно встречали их вопросами: «Ну что? Опять ничего? По всему видно, что бедные дети почивают теперь в волчьих или сомовьих желудках. О жалкий Никанор! о несчастный Коронат!» Мужья, приводимые такими восклицаниями в большее уныние и горесть, потирали лбы, ерошили чубы и уходили иногда на целый день из домов своих. Все, что только приводило их в некоторую рассеянность и заставляло на малое время забыть свое горе, были разговоры о потере Харитоном хутора и о грозящей ему бедности. «Может быть, — восклицали они, улыбаясь сквозь слезы, — может быть, праведное небо и покраше его отделает, и тогда посмотрим, как бездушник плясать станет!»
Время летит заведенным порядком, и полета его не остановят ни слезы, ни улыбки. Настал светлый праздник, и все горбылевские жители, — исключая печальные семейства панов Иванов и Анфизы, радостно восшумели. Веселые толпы народа обоего пола и разного возраста бродили из улицы в улицу, и громкое пение раздавалось по воздуху; случившиеся на ту пору в Горбылях запорожцы, водя за собою гудошников и цимбалистов, тешили народ чудесною пляскою, борьбою и кулачными боями.
На третий день сего праздника перед обедом Анфиза с дочерьми, сыном и дьячком Фомою сидели у окон на лавках и пасмурными глазами смотрели на веселящихся; вдруг они вздрогнули, услыша топот коней и стук быстро катящихся колес. Они высунули головы в окна и радостно вскрикнули: «Вот и он!» Они увидели остановившуюся у ворот польскую бричку, а позади ее повозку Харитонову.
— Вот и отец ваш! — сказала Анфиза, вскочила с лавки и побежала из комнаты; за нею последовал сын Влас, за ним Фома, а наконец, и обе сестры. Сии последние хотя не могли не трепетать, представляя гнев отца, когда откроет их тайну, однако на сей раз они укрепились сколько могли, да и самая мать уверила их клятвенно, что скорее решится умереть под ударами разъяренного мужа, чем допустит его хотя пальцем прикоснуться к любезным дочерям ее в настоящем их положении.
Все выбежали за ворота, устремились к кибитке и с бьющимися сердцами, с простертыми руками ожидали появление отца и мужа. Кто ж опишет их недоумение и ужас, когда увидели, что из брички сошли на землю сам пан сотник Гордей с есаулом, а из кибитки писец Анурии с подписчиком. Сии надменные паны, не сказав окаменелому семейству Харитонову ни слова, пошли на двор, бричка и кибитка за ними следовали, и как скоро проехали ворота, то они затворились. Анфиза, ее дети и самый храбрый дьячок Фома не могли пошевелиться и походили на пригвожденных к земле. Дьячок, первый получив возможность что-нибудь промолвить, вскричал:
— Что ж вы здесь делаете? К вам пожаловали гости, а вы о приеме их и не подумаете! Вероятно, что они вас и не узнали и теперь ищут по всему дому: слышите ли, какая там возня, какая стукотня! Пойдемте к ним!
Фома бодрыми стопами подошел к воротам и хотел отворить их для своих сопутниц, но не тут-то было; сколько он ни силился, сколько ни мучился — все напрасно. Он оборотился к Анфизе и в крайнем смущении смотрел на нее молча; сын и дочери Харитоновы глядели на остолбеневшего дьячка с открытыми ртами и также молчали. Вскоре услышали они по другую сторону ворот пыхтенье, и вдруг показался до половины писец Анурии. Он сел верхом на перекладине, вынул из кармана лист бумаги и произнес громко: