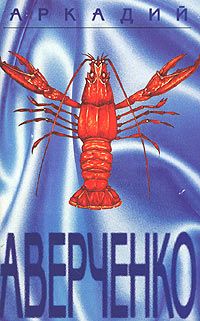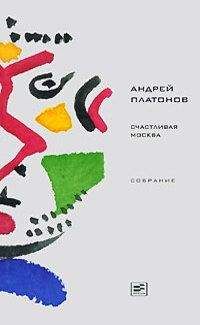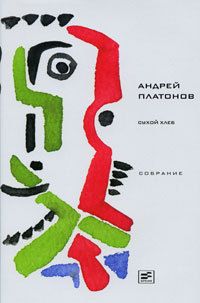Аркадий Аверченко - Том 2. Круги по воде
— Нечего там раскуриваться! — оборвал его безжалостный товарищ. — Помогай таскать вещи. Смотри — до хозяина досидимся.
— А ты чего же не помогаешь? — робко спросил Иван Сергеич.
— Напомогался достаточно! Моя работа раньше была. Не бросай папироски на ковер: прожжешь — за него и полцены не дадут! Черти вы! Разве понимаете?
* * *На улице было холодно… Босые ноги чувствовали на мостовой предрассветную сырость.
Товарищ Ивана Сергеича тоже вышел к подводам и равнодушно смотрел, как их нагружали «ребята».
— Готово, ребята? — спросил он.
— Все готово.
Тогда товарищ обратил сонное лицо к Ивану Сергеичу и, улыбнувшись, сказал:
— А теперь — иди себе, братец, подобру-поздорову.
— Как — иди? — ахнул Иван Сергеич. — А вещи? А дележка?
— Какие вещи?
— Да эти! Что мы собирали.
— А разве они твои, эти вещи?
Иван Сергеич рассердился.
— Да ведь и не твои!!
— Нет, мои.
— Это же еще почему такое? Хозяин ты им, что ли?
Незнакомец засмеялся.
— Эх ты! Говорил же я, дураки вы, воры! А кто ж я? Конечно, хозяин. На другую квартиру переезжаю, с ночи укладывался… А ты тут пришел, помог… Да я ничего не имею. Спасибо, что помог. По крайней мере, честным трудом рубль заработал. Хе-хе! Я даром, братец, чужого труда не хочу. На, получай! За честный твой труд!
Хозяин вынул из кармана рубль и сунул его в руку Ивану Сергеичу…
Уже всходило солнце, когда Иван Сергеич брел по пустой улице недовольный, брюзжащий сам на себя, с серебряным рублем, зажатым в грязный кулак.
Гармоничная натура Ивана Сергеича могла показаться странной непонимающему, недалекому человеку.
Этот рубль, заработанный трехчасовым тяжелым, неблагодарным трудом, — жег ему руку.
Проходя по мосту, Иван Сергеич плюнул, очень неприлично обругался и, размахнувшись, выбросил дурацкий рубль в воду.
Животное
Мой приятель, студент Ушкуйников, и я — мы сидели в цирке и смотрели на громадного, мясистого парня, который стоял на арене и, изогнувшись чудовищным глаголем, поднимал над головой какие-то металлические шары,
— Ловко! — восторженно прошептал; Ушкуйников, шевеля мускулистыми руками. — Одной рукой! А в них около семи пудов.
— Ну так что? — спросил я, с усмешкой глядя на него.
— Семь пудов! Это — рекорд!
— Чего ты так волнуешься? Разве тебе не все равно, если в этом инструменте, висящем сейчас над его головой, — семь пудов, а не пять или шесть?
— Что ты! — удавился Ушкуйников. — Как же может быть все равно? Шесть пудов — это и я жму! А вот семь — это уже гениально!
— А что, если бы нашелся человек, — саркастически спросил я, — который мог бы переплюнуть через двухэтажный дом? Ты бы тоже назвал его гениальным?
— Поехала! — засмеялся: Ушкуйников. — Это уже, брат, философская отвлеченность. Шопенгауэр!
Не знаю, что меня привязало к этой большой, добродушной, глуповатой, сильной собаке. Мы были совершенно разные люди: я — маленький, худой, с нежными руками, впалой грудью и вечной боязнью холода, жары и ветра; он — высокий, широкогрудый, с железными мускулами, громким хохотом и с какой-то медвежьей грацией и ловкостью в движениях… Я — умный, много читавший, много знающий человек, он — недалекий, простой, с самыми примитивными, влечениями и настроениями.
Когда мы шли из цирка, я, делая короткие шажки, смотрел на него снизу вверх, нервно дергал его большую красную руку и язвительно говорил:
— Я тебе удивляюсь! Ты человек без полутонов. Осчастливить тебя можно тем, что — каким-либо образом — утроить твой рекорд в поднимании восьмипудовой гири… А сделать несчастным — еще легче. Стоит только ударить тебя оглоблей по голове; тогда ты, ощутив физическую боль, — будешь чувствовать себя страшно несчастным.
Он рассмеялся.
— Ну и чудак же ты! Выдумает что-нибудь вечно. Разве можно оглоблей драться?
— Вот видишь! Видишь? Очень мило… ты даже не уловил моей главной мысли, а обратил почему-то внимание на оглоблю, будто бы в ней весь центр! Оглобля играет здесь чисто служебную роль, как подспорье, как иллюстрация к отвлеченной мысли.
— Да брось, — сказал Ушкуйников. — Философия. Гегель.
— Ты меня извини, — с горячностью вскричал я. — Но я не понимаю тебя… У тебя какая-то мания притворяться глупее, чем ты есть. Ведь ты, как студент, все-таки знаешь, что употребление тобой имен философов совершенно бессмысленно. Ни Шопенгауэр, ни Гегель здесь ни при чем.
— Да брось.
— Чего там бросать? Я знаю, когда тебе возразить нечего, ты говоришь: да брось. Это, брат, самый глупейший прием в споре.
Он, сбитый с толку, приостановился.
— Чего ты ругаешься? Смотри — горло пересохнет. Хочешь, я сейчас посажу тебя на крышу этого киоска? Оттуда удобно говорить блестящие речи!
— Конечно, конечно! У тебя ведь другого аргумента быть не может. Или на какую-нибудь дурацкую крышу посадишь, или повалишь на тротуар.
— Да брось, — поежился Ушкуйников. — Я же пошутил.
Я сделал вид, что не слышу его.
— Ты можешь ударом кулака раздробить мне голову, но ведь эту же операцию может произвести и любой дом, который уронит с карниза мне на голову кирпич. Какая же между вами тогда разница?
— Между мной и домом? — спросил притихший студент.
— Да-с. Между тобой и домом. Теперь уже пора бросить это!.. Раньше, конечно, когда любовь женщины добывали дубиной, и пищу добывали дубиной, и честь свою защищали дубиной — тогда физическая сила была хороша… А теперь, когда мы идем по гладкому тротуару, мимо целой тучи городовых, навстречу вежливо извиняющимся при невольном толчке прохожим, — кому и на что нужны твои рекорды, бицепсы и твое примитивное «да брось…»
— Да брось, — сказал Ушкуйников. — Почему же человеку и не быть сильным, если он хочет этого?
— Не надо. Устарело. Пережиток. Уродливый атавизм.
— Эммануил Кант, — прошептал Ушкуйников.
— Дурак.
— Да брось. Пойдем лучше в кабак. Чего ты так распетушился?
IIВ ресторане мы выбрали в боковой комнате укромный, безлюдный уголок и уселись за столик.
— Дайте мне баранью котлетку. А ему, — усмехнулся я, указывая на Ушкуйникова, — четыре порции сосисок с капустой.
— А сколько у вас штук на порцию? — спросил с любопытством Ушкуйников.
— Четыре штуки.
— Тогда четырех порций хватит.
— Однако, — болезненно поморщился я. — Я хотел пошутить… А ты серьезно?..
— Такими вещами не шутят, — сентенциозно сказал Ушкуйников. — И дайте маленькую кружку пива за 20 копеек.
— Это самая большая, — возразил лакей.
— Ну уж и большая! Хвастаетесь. Давайте скорей! Иначе я выпью всю вашу кровь и жалкие остатки тела съем!
Он подмигнул лакею и захохотал.
Когда лакей отошел, Ушкуйников сладко потянулся, встал и заявил.
— Хорошо бы, пока подадут ужин, сыграть одну партийку на бильярде. Как движение — очень полезно!
— Играй сам свою партийку. Я не хочу.
— Да почему?
— Что в ней хорошего, в бильярдной игре? Тычут палками в какие-то шарики, а те катаются по сукну, падая изредка в узкие, неудобные для этой цели, отверстия. Очень забавно!
Эта живая, нарисованная мною картина подействовала на впечатлительного Ушкуйникова угнетающе. Он приостановился, и на его лице появилось выражение нерешительности и колебания: стоит ли действительно играть?
Но сейчас же его медленную голову осенила какая-то мысль… Он улыбнулся, погрозил мне пальцем, сказал:
— Барух Спиноза!
И ушел в бильярдную.
Я развернул газету. Погрузился в чтение.
III— Зд…ррасссьте! Скуч…ск…учаете?..
Я поднял голову и увидел перед собой неопределенно улыбающееся лицо какого-то плотного господина, склонившегося над моим столом.
— Простите, — заявил я. — Я не имею удовольствия вас знать.
— Неужели? Оч-чень жаль. Позвольте присесть?
— Да зачем же? — возразил я.
Он придвинул стул, сел, протянул руку к моей газете и отложил ее на подоконник.
— Охота вам читать! Все равно чепуха. Ничего интересного. А я — можете представить — вдребезги!
— Что вдребезги?
— Прокутился. Даже на пиво не осталось.
— Это место занято, — сказал я, с гримасой смотря на его красные сузившиеся глазки.
— За-ня-то? — откинулся он на спинку стула. — Послушайте!.. Может, вы не рады, что я к вам сел, а?
В его заплывших глазах мелькнуло что-то такое, от чего я сделал равнодушное лицо и с легкой дрожью в голосе сказал:
— Почему же не рад? Я ничего… Я только к тому, что место занято. А то — сидите.
— Б…лагодарю вас! Спасибо. Б…лагороднейший человек!
На лице его появилось выражение нежности.