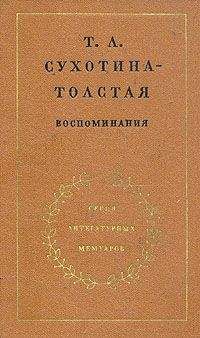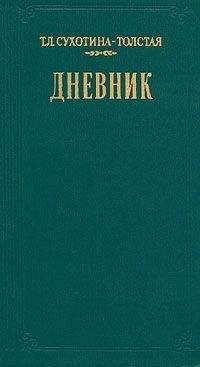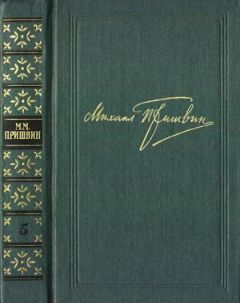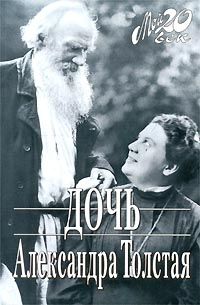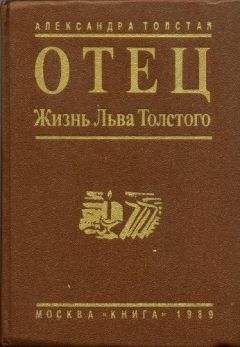Михаил Пришвин - Том 5. Лесная капель. Кладовая солнца
Ответом на этот вопрос я и закончу свой рассказ об открытии заполярного меда и устройстве там пасек летом 1950 года.
Было это без пяти лет тому назад полстолетия, когда я бродил пешком по Северу и записывал сказки. Где пешком, где на случайной повозке, где на лодке – берегом моря, выбрался я на Кольский полуостров и очутился совершенно один в заполярной пустыне.
Лежали спящие и тогда никому не ведомые в горах апатиты, курились в облаках, как люди в сонных грезах, лапландские вараки (сопки), и в тишине полярной ночи беспрерывно работала на себя безработная для нас тогда река Нива.
Моя душа была тогда, как северные цветы, переполнена медом несознанного таланта, медом, ожидающим прилета пчелы. Вот отчего, наверно, внутренний мир мой разделялся как бы роковой чертой: на одной стороне талант, как возможность великого счастья и радости жизни, на другой – темная, мрачная пустыня. В соответствии с этим и внешний мир разделялся той же роковой чертой – на светлый мир незаходящего солнца и мрачный мир полярной ночи. Через эту роковую черту, казалось, не смела перелететь и пчела.
И так мне было, будто я, сказочник по природе своей, пустыню пройду в светлое время, унесу с собой ее сказки, отдам их счастливым, а бедные северные люди останутся без меня переносить беспросветную ночь.
Каждая курящаяся варака, казалось, шептала мне:
«Проходи, проходи!»
И грубое слово «проходимец» кололо меня.
Сказки мои, записанные в то время на Севере, песни, былины говорили о садах, соловьях, ягодах: вишне, малине, – а в действительной жизни тогда здесь не могла расти даже картошка.
Но разве и на моей прекрасной родине в бархатных лугах, где были и сады роскошные, и соловьи, цветы, и Тургенев, и милые деды на пасеках, тоже было в существе своем не так же, как и в Лапландии? Почему же ведь и назывался в моем родном краю крестьянин мужиком, что этим словом человек заключался в неподвижность при самом рождении, как негр заключался в черную кожу, презренную для белого рабовладельца. Какие-то жалкие сажени земли назначались нашему негру, и они все уменьшались при размножении людей и при переделах.
В этом чувстве обреченности мы воспитывались с колыбели. При первом луче нашего сознания нас встречала легенда о проклятии человека с изгнанием из рая и вечным наказанием в поте лица зарабатывать себе хлеб. А дальше, в юности, когда разум начинал бороться с легендой о проклятии человека, нас встречал чудовищный «закон» Мальтуса, отдающий человека в вечное рабство природы: человек будто бы размножается в геометрической прогрессии, а средства существования растут в прогрессии арифметической. Еще дальше, когда наш взрослый человек поступал на государственную службу, он давал присягу верности царю, венчающему косность человека в природе.
Вот отчего, наверно, и я, в своей доле тоже раб своего века, проходил по тундре в одежде, мокрой от меда, и не догадался сделать усилие и доставить на Север пчелу.
Это чувство обреченности распространялось на все – и на то, что пчелы в зависимости от местных условий не могут жить на Севере. И каждый так, будучи в тисках мрачного духа, 01раничивал в себе право таланта переступать будто бы роковую черту. А честнейший человек жил по правилу нашего времени: сначала социалистическая революция, а потом раскрытие таланта, подобного личному счастью.
Теперь там, где я когда-то бродил в смущении перед чем-то неизбежным, похожим на смерть, выросли настоящие города, полярной ночью стало светло, как днем, разные овощи стали вырастать, как и у нас. И вот на столе моем в хрустальных вазочках, играя отсветами при электричестве, лежит ароматное целебное вещество, заполярный мед, небывалый в природе и обязанный своим бытием только усилию нового, освобожденного человека.
Наш сад
Было это давно, еще в царское время, и даже не при последнем царе. Мы жили тогда в небольшом рыжем домике – три окошка на улицу и позади сад. В нашем небольшом городке в каждом доме было: окна на улицу в пыль, а позади сад, разделенный заборами. Так было всюду в старое время, и сама Москва ничем не отличалась от провинции. Только в последнее время становится заметным, что сады, скверы и парки в Москве как бы выходят вперед, и это для меня, садовника, самая большая новость и радость.
В наше старое время было правило, что впереди для всех пыльная улица, а позади дома сад для себя.
Так вот я хочу рассказать, как в одном городке, где мы жили, время переходило, и сады тоже в конце концов вышли вперед.
Было как-то раз, приходит в наш домик на Дворянской улице мужичок средних лет в синей блузе. Волосы его были русые, долгие, сапоги высокие смазные, глаза голубые, и на конце лица висела острая бородка.
– Здравствуйте, добрые люди! – сказал мужичок. – Хлеб да соль.
– Милости просим! – ответила мать.
За спиной у гостя была сумка, в правой руке палка-писанка самодельная, в левой оказалось самое главное: ящик с красками.
– Я художник, – сказал он матери. – Нельзя ли у вас остановиться на все лето?
– Рада бы, – ответила вежливо мать, – да поглядите сами: тесно, куда я вас дену?
– Баня у вас в саду свободная, – сказал художник, – я бы жил в ней, а когда плоды поспеют, я бы сад караулил.
А это такая правда была о карауле: бывало, как только плоды начинают поспевать, у нас по всему городу воры зубы на яблоки точат, прямо настоящая война начинается, и хозяева даже и спят в садах с ружьями.
Возможно ли было нашей бедной матушке с малыми детьми охранить сад от разбойников! Еще хорошо, что сад был с плодами не каждый год. Но как раз в этот год, когда пришел к нам художник, яблоки и груши завязались с большой силой и урожай ожидался очень большой. Вот почему предложение художника очень понравилось матери, и она ему так сказала:
– Я вдовой осталась с кучей маленьких детей, мне очень трудно сад караулить. Я бы, конечно, и очень рада была вас пустить в баню, да только мне совестно: вы же не знаете, какая эта баня внутри – не баня, а завалюшка, мы же больше в ней не моемся, а сколько в ней мусору!
– Крыша еще не разъехалась? – спросил нас художник.
– Единственно только крыша, кажется, и ничего: даже не каплет, – ответила мать.
– Не каплет, – повторил художник, – а что еще нужно? Мусор же, какой бы он ни был и сколько бы его ни было, я уберу и мешать вам не буду: обед буду варить себе сам.
Мать, конечно, обрадовалась такому жильцу и пустила художника в баню.
И как же нам с Сережей понравился этот художник! Может быть, это детство наше так сказывается, но мне кажется, во всей своей долгой жизни я не встречал таких добрых людей. Он с того начал в саду, что возле самой бани вырыл глубокую яму и велел нам таскать в нее всякий хлам из бани: обломки кирпичей, гнилушки, железки, тряпки, ведра без дна. Набралась целая яма всякой такой дряни. После того мы яму со всех сторон засыпали землей, утоптали, и баня стала чистая. Мать пришла поглядеть, принесла белые тряпочки, столик, постелила, похвалила нашу работу и позвала художника обедать.
– Сделайте милость, никогда меня не зовите и ничего больше для меня, пожалуйста, не делайте: у меня такой принцип, чтобы делать все по возможности самому и людей своей особой не затруднять, особенно людей таких хороших, как вы. Я и так не знаю, как вас благодарить за сад: как хорошо он зарос, какая тишина: ни один листик не шевельнется.
– Да, – ответила мать, – погода стоит прекрасная. Только старайтесь ничем не задевать соседа: у нас с ним, как и всюду в этих маленьких домиках, спор постоянный, почти что война. И только все из-за одного дерева. Вышло так, что почти половина веток с дерева свешивается через забор, и груши падают на его сторону. Мы, однако, не из-за того с ним спорим: что пало, то и пропало для нас, то пусть и будет его. Спорим мы с ним из-за того, что он всякими способами нахально помогает грушам падать на его сторону.
«Дерево, – говорю я, – стоит у меня – мое дерево, и плоды мои».
«Не все дерево стоит на вашей земле, – отвечает он, – у вас только корень, а ветки мои; у вас оно только стоит, а меня оно любит». Так ведь мало того, что трясет на свою сторону с тех веток, еще и длинным шестом с гвоздиком достает груши и с нашей стороны. В чем-нибудь он и к вам непременно придерется и вас достанет своим проклятым шестом. Это очень дурной человек, и недаром ему дали прозвище…
Мать не посмела выговорить прозвище соседа.
– А я очень люблю эти народные прозвища, – сказал художник. – Если можете, то, пожалуйста, скажите.
Мать ответила:
– Впрочем, ничего особенного. Его все в нашем городе называют Проглотом.
Вот теперь подходит рассказ мой к тому самому, из-за чего я на всю жизнь определился садовником, и люблю это самое дело больше всякого, и могу по-настоящему делать только сады. Скорее всего, думаю, любовь моя эта к саду пришла ко мне от художника, это он, наверно, обратил глаза мои навсегда в ту сторону.