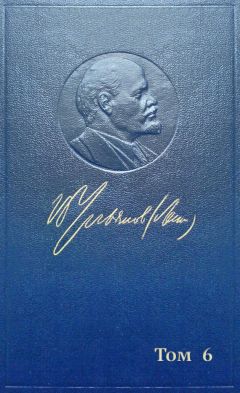Николай Лесков - Том 3
Большой рост дурака, его пробивающиеся усы, мужественный голос и странная офицерская манера держаться, резко выделявшая его из окружающей его мелюзги, все, по-видимому, возбуждало к нему большое внимание нового учителя; рассмеявшись, он положил перо и сказал шутливо:
— Хорошо, господин Калатузов, я вам в таком случае не напишу нуля, если вы обещаетесь знать что-нибудь.
— Вы будьте в этом уверены, — отвечал Калатузов.
И вот пришел следующий класс; прочитали молитву; учитель сел за стол; сделалась тишина. Многих из нас занимало, спросит или не спросит нынешний раз новый учитель Калатузова; а он его как раз и зовет.
— Вы нам, кажется, — говорит, — обещали прошлый раз что-то выучить?
Калатузов нехотя, что называется как вор на ярмарке, повернулся, наклонился в один бок плечом, потом перевалился на другой, облокотился кистями обеих рук о парту и медленно возгласил:
— Точно, я вам это обещал.
— Что же вы знаете? — спросил учитель.
Для Калатузова это был вопрос весьма затруднительный; ему было безразлично, о чем бы его ни спросили, потому что он ничего не знал, но он, нимало не смутившись, равнодушно посмотрел на свои ногти и сказал:
— Я все знаю.
— Все?
— Да, все, — еще спокойнее отвечал Калатузов.
Учителю стало необыкновенно весело, а мы с удовольствием и не без зависти заметили, что Калатузов овладевал и этим новым человеком и, конечно, и от него будет пользоваться всякими вольностями и льготами.
— Но есть же что-нибудь такое, — спросил его учитель, — что вы особенно хорошо знаете?
— Нет, мне все равно; я все одинаково знаю, — отвечал, нимало не смущаясь, Калатузов.
— Но, верно, есть что-нибудь такое, что вам особенно приятно рассказать. Я хочу, чтобы вы сами выбрали.
— Извольте, — отвечал Калатузов и, бесцеремонно нагнувшись к своему маленькому соседу, взял в руки географию, развернул ее, взглянул на заголовок статьи и сказал:
— Пруссию.
— Вы лучше всего знаете Пруссию?
— Да, Пруссию, — отвечал Калатузов
— Потрудитесь начинать.
— Извольте, — отвечал Калатузов и, глядя преспокойно в книгу, начал, как теперь помню, следующее определение: «Бранденбургия* была», но на этом расхохотавшийся учитель остановил его и сказал, что читать по книге вовсе не значит знать. Калатузов бросил книгу на стол, дал в обе стороны два кулака сидевшим около него малюткам и довольно громко сказал: «Подсказывай»… Молодой учитель смотрел на всю эту проделку с видимым удовольствием. Его это смешило и тешило. Два маленькие мальчика, боявшиеся своего огромного соседа, оба зажужжали: «Бранденбургия была первоначальным зерном Прусского королевства». Так излагались сведения о Пруссии в нашей географии.
Жужжавшие наперерыв друг пред другом мальчики подсказывали, однако, неудовлетворительно. Калатузов пригинался то к одному из них, то к другому и, получая вместо определительных слов какое-то жужжание, вышел, наконец, из терпения и сказал:
— Один подсказывай.
Соседний мальчик справа внятно произнес ему:
— Бранденбургия была первоначальным зерном Прусского королевства.
— Довольно, — сказал Калатузов; с этим он откашлянулся, провел пальцем за галстуком, поправил рукой волосы, которые у него, по офицерским же правилам, были немного длиннее, чем у всех нас, и спокойно возгласил:
— Пруссия есть зерно.
— Как зерно? — переспросил изумленный учитель.
— Так написано, — отвечал Калатузов.
— Но позвольте же узнать, как же это? Есть зерна ржаные, овсяные, пшеничные. Какое же зерно Пруссия?
Калатузов подумал и, сделав кислую гримасу, отвечал:
— Я вам не могу объяснить этого, какое это чертово зерно.
Вот этот-то умник Калатузов во время тайного разговора в четверг Лазаревой недели и говорит:
— Пустяки, — говорит, — есть физическая возможность, чтобы нас отпустили завтра утром; мне, — говорит — нет ничего легче доказать вам эту физическую возможность.
Мы стали просить, чтоб он нам ее доказал.
— Сегодня вечером, — начал внушать Калатузов, — за ужином пусть каждый оставит мне свой хлеб с маслом, а через полчаса я вам открою физическую возможность добиться того, чтобы нас не только отпустили завтра, но даже по шеям выгнали.
— Выгонят по шеям!.. — У нас даже ушки от этого запрыгали.
— Только надо, чтоб кто-нибудь взялся сделать одно дело, — продолжал Калатузов.
— Страшное? — спросило разом несколько голосов.
— Ну, не очень страшное, — отвечал Калатузов, — но таки рискованное.
— Рискованное? — крикнул тоненьким голоском маленький, чистенький и опрятный мальчик, который был необыкновенно красив и которого все в классе целовали.
Он назывался Локотков.
— Рискованное? — воскликнул Локотков. — Я берусь за всякое рискованное дело.
Локотков был у нас отчаянною головой: он употреблялся в классе для того, чтобы передразнивать учителя-немца или приводить в ярость и неистовство учителя-француза. Характера он был живого, предприимчивого и пылкого.
Локоткову удавалось входить в доверие к учителю французского языка и коварно выводить его на посмешище, уверяя его во время перевода, что сказать: «у рыб нет зуб» невозможно, а надо говорить: или «у рыбей нет зубей», или «у рыбов нет зубов» и т. п.
Кончалось это обыкновенно тем, что Локоткову доставался нуль за поведение, но это ему, бывало, неймется, и на следующий урок Локотков снова, бывало, смущает учителя, объясняя ему, что он не так перевел, будто «голодный мужик выпил кувшин воды одним духом».
— Одним духом невозможно пить, monsieur Basel,[61] — внушал с кротостию учителю Локотков.
— Taisez-vous,[62] — сердито кричал француз и, покусав в задумчивости губы, лепетал — Мужик, le paysan,[63] выпил кувшин воды одним…шагом. Да, — выговаривал он тверже, вглядываясь во все детские физиономии, — именно выпил кувшин воды одним шагом…нет… одним духом… нет: одним шагом…
И раздавался снова хохот, и monsieur Basel снова выписывал Локоткову zéro.[64] И вот это-то веселый, добродушный мальчик вызвался совершить рискованное предприятие.
Глава тринадцатая
Рискованное предприятие, которое должно было спасти нас и выпустить двумя днями раньше из заведения, по плану Калатузова, заключалось в том, чтобы ночью из всех подсвечников, которые будут вынесены в переднюю, накрасть огарков и побросать их в печки: сделается-де угар, и нас отпустят с утра.
План был прост и гениален.
Что за тревожная ночь за сим наступила! Тишина была замечательная: не спал никто, но все притворялись спящими. Маленький Локотков, в шерстяных чулках, которые были доставлены мне нянею для путешествия, надел на себя мне же доставленную шубку мехом навыворот, чтоб испугать, если невзначай кого встретит, и с перочинным ножиком и с двумя пустыми жестяными пиналями отправился на очистку оставленных подсвечников. Поход совершился благополучно. Локотков возвратился, сало украдено, но сам вор как будто занемог; он лег на постель и не разговаривал. Это было вследствие тревоги и волнения. Мы это понимали.
Глава четырнадцатая
На небе засерело туманное, тяжелое апрельское утро. Нам все не спится. Еще минута, и вот начинается перепархивание с одной кровати на другую, начинаются нервная горячка и страх. На некоторых кроватях мальчики помещаются по двое, и здесь и там повсеместно идет тихий шепот и подсмеиванье над тем, что будет и как будет. Кое-кто сообщает идиллические описания своей деревушки, своего домика, но и между идиллиями и между хохотом все беспрестанно оборачиваются на кроватку, на которой лежит Локотков. Он, кажется, спит; его никто не беспокоит. Все чувствуют к нему невольное почтение и хотели бы пробудить его, но считают это святотатством. Кто-то тихо подкрался к нему, посмотрел в глаза, прислушался к дыханию и покачал головой. Что значит это неопределительное покачиванье головой — никому неизвестно, но по дортуару тихо разносится «спит». И вот еще минута. Всем кажется, что Локоткова пора бы, наконец, будить, но ни у кого не достает решимости. Наконец где-то далеко внизу, на крыльце, завизжал и хлопнул дверной блок.
Это истопники несут дрова… роковая минута приближается: сейчас начнут топить. Дух занимается. У всех на уме одно, и у всех одно движение — будить Локоткова.
Длинный, сухой ученик с совершенно белыми волосами и белесоватыми зрачками глаз, прозванный в классе «белым тараканом», тихо крадется к Локоткову и только что хотел произнести: «Локотков, пора!», как тот, вдруг расхохотавшись беззвучным смехом, сел на кровать и прошептал: «Ах, какие же вы трусы! Я тоже не спал всю ночь, но я не спал от смеха, а вы… трусишки!», и с этим он начал обуваться.