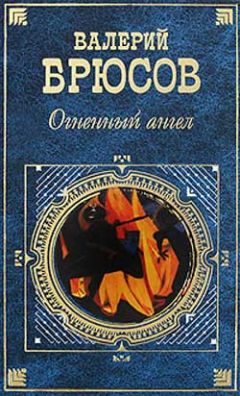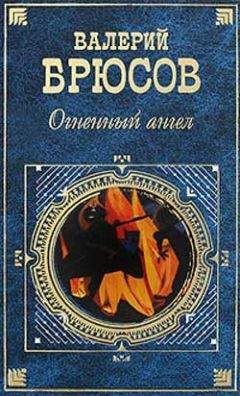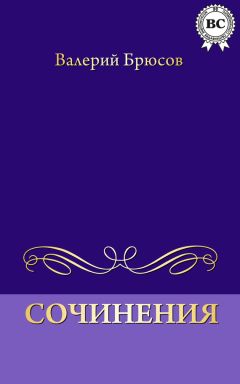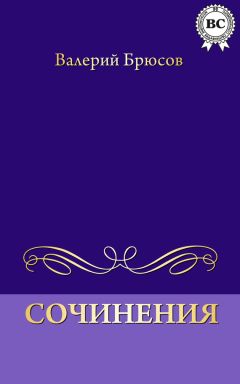Огненный ангел (сборник) - Брюсов Валерий Яковлевич
Старуха и еще что-то попричитала, а потом поманила нас к себе, говоря:
– Подойдите, птенчики милые, я вам дам травки одной, хорошей травки: раз в году она цветет, равнехонько один, в ночь под самый Иванов день.
Мы, не ожидая дурного, приблизились к ворожее. Но вдруг на сморщенном лице ее рот перекосился, а глаза стали круглые, как у щуки, и черные, как два угля. Она сразу потянулась вперед и, цепкими пальцами, словно железным крючком, захватив мою куртку, уже не забормотала, а, как змея, зашипела:
– Молодчик, это что, это что у тебя? На куртке-то у тебя, и у тебя, красавица, на кофте? Кровь-то это откуда? Столько крови откуда? Вся куртка в крови, и вся кофта в крови. И течет кровь и пахнет!
При этом ноздри горбатого носа старухи раздувались, вдыхая запах, и она тряслась всем телом или от радости, или от страха. Но мне от этого шипа и от этих слов стало не по себе, а Рената так зашаталась около меня, что могла сейчас же упасть. Тогда я рванулся из крепких тисков обезьяны, опрокинул стол, так что стекла разбились и вода потекла, и, подхватив Ренату одной рукой, другой взялся за шпагу, закричав:
– Прочь, ведьма! не то я проколю твое проклятое тело, как рыбу!
Старуха же, в неистовстве, все хваталась за нас, вопя: «Кровь! кровь!»
На шум вбежал к нам сын ворожеи, ударом кулака сшиб свою мать с ног, а нас начал осыпать непристойной бранью. Мне представилось, что такие происшествия были для него не новостью и что он знал, как в этом случае взяться. Я же поспешно повлек Ренату на воздух, и мы, насильственно протиснувшись сквозь толпу, нас окружившую и засыпавшую, как горохом, расспросами о том, что произошло, поспешили к тому дому, где осталась наша поклажа.
Тотчас же я сказал оседлать нашу лошадь, чтобы ехать далее по прерванному пути. Но уже всю веселость и всю говорливость Ренаты точно кто-то срезал серпом, и она не хотела произнести ни слова и почти не подымала глаз. Когда я помогал Ренате подняться на седло, она клонилась, как надломленный стебель, и поводья выпадали из ее рук. Движениями и действиями она, должно быть, в совершенстве напоминала чудесный автомат Альберта Великого [43]. Так печально выехали мы из Геердта и потянулись по дороге к Рейну.
Чтобы разуверить Ренату в гадании ворожеи, попытался я тогда изобразить ей все, что случилось, в смешном зеркале и начал вспоминать всевозможные случаи, о каких только слышал, как предсказания не сбылись или были обращаемы против авгуров: например, о гадателе, который предрек миланскому герцогу Джангалеаццо Висконти [44] скорую смерть, а себе долгую жизнь, но был немедленно умерщвлен герцогом; о человеке, которому провидец объяснил, что он умрет от белой лошади, и который, хотя избегал с тех пор всяких лошадей, даже гнедых, пегих и вороных, погиб оттого, что на него упала на улице трактирная вывеска с изображением белой лошади; о юноше, которому цыганка точно назначила день и час смерти и который нарочно прокутил к этому времени все свое пышное состояние, и потом, видя, что он разорен, а смерть не приходит, покончил жизнь ударом меча, – и другие подобные истории, которыми тешатся горожане в зимние вечера, греясь около разложенного в печи огня.
Но Рената ничем не выражала, что понимает или хотя бы слушает мои речи, и в конце концов не мог не замолчать и я, и остальную часть пути мы совершили в полном безмолвии. Идя около седла, где сидела, в мертвом унынии, Рената, я иногда всматривался внимательно в черты ее лица, с которыми позднее так свыкся мой взор, и разбирал его, как ценитель разбирает мраморные статуи. Я тогда же подметил, что ноздри у Ренаты были слишком тонкими, а от подбородка к ушам щеки уходили как-то наискось, причем самые уши, в которых поблескивали золотые сережки, были посажены неверно и слишком высоко; что глаза были прорезаны не совсем прямо, и их ресницы чересчур длинны, и что вообще все в лице ее было неправильно. Судя по лицу, скорей почел бы я Ренату итальянкой, но на нашем языке говорила она, как на родном, со всеми особенностями мейссенского говора [45]. При всем том была в Ренате некоторая особая прелесть, какое-то Клеопатрово очарование, так что уже в тот день, еще не зная ее вовсе, было мне почти радостно только смотреть на нее, – теперь же, вспоминая об ней, не могу я даже вообразить женского облика, который показался бы мне прекраснее и желаннее.
Наконец после тягостного переезда и после переправы через Рейн достигли мы Дюссельдорфа, столицы Берга [46], города, который так быстро возрастает за последние годы, благодаря заботам своего герцога, и который уже теперь может равняться с красивейшими немецкими городами.
В городе я разыскал хорошую гостиницу под вывеской «Im Lewen» [47] и за щедрую плату получил две самых лучших в доме комнаты, так как хотел, чтобы Рената имела и подходящую ей роскошь обстановки, и все мыслимые в путешествии удобства. Но Рената, казалось мне, не замечала моих стараний, и можно было подумать, что среди полированной мебели, среди изразцовых каминов и зеркал – она чувствовала себя не иначе, чем на скудных, нетесаных скамьях деревенской гостиницы.
Трактирщик, приняв нас за людей богатых, пригласил нас обедать за свой стол, или, как говорят французы, за table d’hote [48], и угощал очень усердно, выхваляя свой добрый Бахарахский рейнвейн. Но Рената, телом присутствуя за нашим столом, была думами далеко, почти не прикасалась к блюдам и не вникала в разговор, хотя я и делал всяческие попытки, чтобы вдохнуть в нее дыхание жизни. Я рассказывал о дивах Нового Света, которые мне довелось видеть, о лестницах в храмах майев с изваянными гигантскими масками, о непомерных кактусах, в стволе которых может отдыхать всадник, об опасных охотах на серого медведя и пятнистого унце и об отдельных своих приключениях, не забывая украсить речь или мнениями современного писателя, или стихами древнего поэта. Трактирщик и его жена слушали разинув рты, но Рената внезапно, на половине моего слова, поднялась из-за стола и сказала:
– Неужели тебе самому не скучно болтать такие пустяки, Рупрехт! Прощайте.
И, не прибавив ни слова, она встала и вышла из комнаты, к большому удивлению всех присутствующих. Тогда мне и в голову не могло прийти рассердиться на ее суровые слова и странный поступок, но испугался я только, как бы не захотела она меня покинуть вовсе. Потому, также вскочив и торопливо произнеся несколько извинений перед сидевшими за столом, я поспешил за нею.
В своей комнате Рената молча села в углу, на стул, и осталась неподвижной и безмолвной, а я, уже не смея заговорить, робко опустился подле нее на пол. Так и остались мы сидеть в уединенной комнате, не начиная беседы, и, вероятно, со стороны показались бы недвижным созданием, искусной рукой вырезанным из окрашенного дерева. Слева от нас в два больших открытых окна виднелись черепитчатые кровли извилистых улиц Дюссельдорфа и торжествующая над домовыми крышами колокольня церкви св. Ламберта. Синева вечера разливалась над этими треугольниками и квадратами, разрушая четкость их линий и соединяя их в бесформенные громады. Та же синева вечера втекала в комнату и обволакивала нас широкими полотнищами темного савана, но в темноте только ярче светились полукруглые серьги Ренаты и более отчетливо вырисовывались ее тонкие, белые руки. Помню, что я смотрел на нее молча, как если бы не мог произнести ни слова, и что мы долго просидели так в безмолвии и бездействии, пока все кругом не стихло по-ночному.
Наконец, сделав такое усилие воли, как если бы мне надо было принять решение величайшей важности или совершить опаснейший поступок, оторвал я свои глаза от Ренаты и произнес какие-то простые слова, кажется эти: