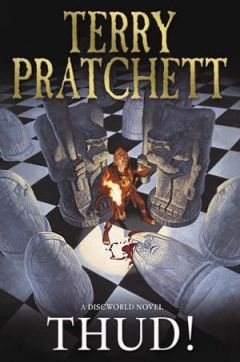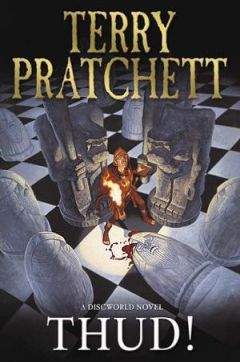Андрей Зарин - Скаредное дело
— Жалуешь не по заслугам убогого раба своего, — сказал он.
— А теперь пойди, милостиво приказал государь, — прикажи звон поднять. Уж и велика радость моя! — прибавил он.
Его молодое, несколько грустное лицо осветилось неподдельной радостью, и на карих глазах блеснули слезы.
— А мы, государь, твоей радостью рады, холопы твои! — поспешно ответили ему окружавшие его бояре, рабски целуя его в плечо и почтительно беря под руки, чтобы вести. Князь вышел на Красное крыльцо и махнул рукою. И тотчас загудели колокола Успенского собора; их звон подхватили колокола, доски и била других церквей, и воздух наполнился радостным гулом.
Тронулось шествие из Кремля с хоругвями, с крестами и иконами за реку Пресну.
Народ двигался густыми волнами по улицам, ломая напролом боков своих заборы, срывая ставни, давя и толкая друг друга. Все двигались к месту встречи царского отца с сыном, и скоро огромное поле было все заполнено людьми всякого звания, возраста и пола.
Капитан Эхе, несмотря на жару, в своей прильбице, латах и епанче, терся тут же в толпе, стараясь протискаться вперед. Он так работал локтями, словно гуляй городок в разгар битвы, и со всех сторон на него сыпалась отборная брань.
— Ах, латиниц оголтелый, чтоб тебя разорвало!
— Куда прешь, леший? Не видишь, — живая душа?
Но капитан смело двигался вперед и, наконец, остановился в переднем ряду, рядом с каким-то дьяком. Нос у дьяка был сизый, обрюзглое лицо лоснилось от пота, синие губы отвисали, и он бормотал про себя:
— Господи Иисусе Христе, Сыне Божий!
— Едут! Едут! — гулом пронеслось в толпе.
И, действительно, в облаках пыли показался торжественный поезд. Впереди шли вершники по два в ряд, за ними целый полк стрельцов, потом послы, ездившие за высокими пленниками, и, наконец, огромная карета, запряженная восемью лошадьми цугом, а сзади царские встречные, посланные вперед, и опять стрельцы и дружины высланных навстречу князей и бояр.
И едва показалось это шествие, как в царском стане все пришло в движение. Заколебались в воздухе кресты, завеяли хоругви и длинным рядом установилось духовенство по чину.
Царь без шапки, с радостным, ликующим лицом, пошел быстро, забыв о царском сане. Шествие остановилось. Из колымаги вышел высокого роста человек в монашеской рясе, в клобуке, и двинулся к своему царственному сыну.
После тяжкой разлуки и волнений, сын увидел своего отца, перед которым в робости своей привык всегда покорно смиряться.
После гонений и плена, отец увидел своего сына, возмужавшего, окрепшего, волею народа вознесенного на необычайную высоту.
И взволнованный отец, почитая высокий сан своего сына, упал на землю и распростерся перед ним. Сын с воплем изумления и радости упал тоже. «И оба лежаста на земле, от очию, яко реки, радостныя слезы пролияху», повествует летописец, описывая этот радостный момент.
Все поле огласилось плачем, но это были радостные слезы. С просветленными лицами поднялись враз отец и сын и заключили друг друга в объятия.
Народ обнажил головы и упал на колени.
Даже капитан Эхе сдернул свою прильбицу и стал на колени.
— Да, да, — бормотал он, — ошень должны быть радые!
— Ошень, ошень! — передразнил его дьяк. — «И ангелы ликуют на небесах», вот; а ты, латиниц, «ошень»! И дьяк поднял кверху палец.
Поезда смешались. Отец с сыном, держась за руки, вошли в колымагу, и все тронулись к Кремлю. Народ побежал рядом с колымагою, сдавливая участников торжества. Все уже знали, что на Красную площадь выкатили бочки вина, и все спешили на даровое пирование.
Гул от звона и веселых кликов стоял в воздухе. Филарет сидел, держа за руку своего сына, а другою благословляя народ, и слезы умиления катились по его суровому изможденному лицу.
— Словно вновь рождаюсь! — говорил он, а сын его заливался слезами и целовал отцовскую руку.
У Кремля их снова встретило духовенство. Филарет вышел из колымаги и приложился к выложенным иконам. В соборе его встретил приехавший в Москву в то время Феофан, патриарх Иерусалимский, и отстоял благодарственный молебен. Филарет вошел, наконец во дворец и почти час оставался глаз на глаз со своим венчанным сыном. В Москве шло пирование. Выпущенные из тюрем колодники, пропойцы, ярыжки и скоморохи метались по улицам, наполняя их криками, песнями и бесчинствуя среди общего ликования.
8
Великий отец венчанного сына твердым шагом вошел в царские палаты и сказал сыну:
— В молельную!
Сын повел отца через приемные покои, через тронную палату, через свои горницы и ввели его в угловой покой, весь завешанный образами, перед которыми в драгоценных паникадилах тускло мигали неугасаемые лампадки. Дневной свет, врываясь через разноцветные стекла окон, побеждал таинственный сумрак углов, и свет лампадок тенями скользил по строгим ликам угодников.
В углу перед киотой стоял аналой, а перед ним был разостлан коврик.
Филарет вошел, осенил себя широким крестным знаменем и, став на колени, припал головой к полу.
Сын опустился с ним рядом в своем великолепном царском уборе, и трогательную картину они являли собою в этот торжественный момент.
С почтением, близким к благоговению, смотрел сын на своего отца; а тот в темной расе, с серебристыми волосами, со строгими чертами подвижнического лица, подымал свой стан, благоговейно крестился и снова падал ниц перед иконами.
Сын не мог молится, тронутый молитвами своего отца. Он смотрел и думал, как он мал и скуден перед своим великим отцом, так много послужившим родине, так пострадавшим за нее и от свои и от недругов. Чувствовал он, что близок миг, когда отец призовет его к ответу, и собирался с думами, и трепетал, и боялся, забыв свой трон и венец и видя себя только покорным сыном.
А Филарет продолжал молиться, и слезы оросили его лик, и смягчились суровые черты его энергичного лица.
О чем он молился?
Неисповедимыми путями ведет Господь жизнь человека, умаляя великого, возвеличивая малого.
Может быть, перед умственным оком Филарета промелькнула вся его жизнь. С молодости судьба взыскала его, наградив умом, доблестью и красотой. В ранних годах, водя войска на окраины, он покрыл себя славой победителя и пленял всех обаянием своей личности. Было время, в царствование Федора и потом Бориса Годунова, когда он считался первым щеголем при дворе, и много женских сердец завидовали счастью Ксении Шестовой.
Но сильнее их завидовал своему боярину пугливый Борис Годунов и, наконец, разразился над ним опалою. Силой постригли его в монахи и заключили в Антониево-Сийскую пустынь, где он промучился шесть лет, разлученный с женой (тоже постриженной) и дорогими детьми. Димитрий Самозванец возвратил его, возвел в сан митрополита ростовского и ярославского и дал ему душевный покой. Но недолго наслаждался им Филарет Никитич. Наступило смутное время, когда он показал всю доблесть свою, величие духа своего, посланный для переговоров с поляками, и потом наступило тяжкое время пленения.
И вот сын его венчан на царство, сам он снова на родине и народ русский смотрит на него с упованием. Не его ли заслугами отличен и возвеличен Михаил, этот нежный, слабым умом юноша, подчиненный власти своей матери? Не на его ли плечи ляжет теперь крест, возложенный на слабую шею сына? И он то смиренно благодарил Господа за милость, посланную ему, и за величие сына; то, полный честолюбивых мыслей, просил у Господа благословения на трудный подвиг правления.
Наконец, он встал, освеженный молитвою, и нежно помог подняться сыну, царское одеяние которого по своей тяжести требовало не малой силы от носившего его.
— Благослови! — припал к его руке Михаил.
— Благословен будь! — ответил отец, осеняя его крестом, и помолчав сказал:
— Господь Бог, правя волею народа, наложил на слабые плечи твои великое бремя. Поведай же мне, что делал, что думаешь делать, кого отличил и кого карал за это время!
Сын покорно опустил голову.
— Где государевы дела правишь? — спросил отец.
— Тут, батюшка!
Михаил ввел отца в соседний просторный покой, уставленный табуретами и креслами без спинок; посредине его стоял стол, покрытый сукном, на нем стояла чернильница с песочницей в виде ковчега и подле них лежали грудой наваленные белоснежные лебединые перья.
Подле чернильнице на цепочке был привешен серебряный свисток, заменявший в то время колокольчик, тут же лежали уховертки и зубочистки, а посредине стола длинными полосами нарезанная бумага. Исписанные полосы потом склеивались и свертывались в трубку, образуя свиток. Невдалеке, сбоку, лежала грифельная доска с грифелем в серебряной оправе.
По стенам покоя стояло еще несколько столов. На одних лежали грубо начерченные географические карты и астрономические таблицы с символическими изображениями созвездий; на других стояли часы, до которых Михаил Федорович был большой охотник.