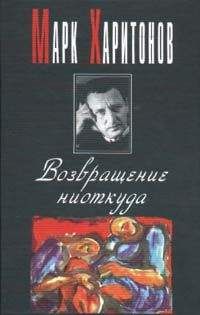Сергей Минцлов - За мертвыми душами
Он ушел и прислал Гамлета с клубком толстой бечевки. Я бережно, сам, не доверяя рукам принца, могшим в пылу усердия затянуть книги до пореза полей, перевязал их. Вышло пять больших пачек, всего пудов на шесть весом.
Гамлет ухитрился захватить три связки, Глаша две, я забрал остальные вещи, и мы вышли на подъезд. Лопоухие белячки уже ожидали меня; Петр Иванович и Мирон стояли и беседовали около них.
Возница мой, открыв рот, обозрел пачки с книгами, которые Гамлет принялся размещать в бричке, затем влез на козлы. Я дал Глаше и Гамлету на чай; первая осветилась улыбкой, второй низко раскланялся. Приказчику я пожал руку и, как архиерей, бережно подсаживаемый под ручку Гамлетом, устроился на сиденье.
— Доброго пути!! — проводил меня хор из трех голосов.
— Прощайте, Петр Иванович! — крикнул Мирон, и мы выкатились на двор.
Там уже опять действовала инквизиция: какой-то молодой парень вилами ворошил плохо горевшие книги.
— Фиверки! — вскрикивал он, подбрасывая высоко на воздух кучи пылавших листов.
Сад закрыл дом, потянулись шпалеры из акаций, показались четырехугольные каменные столбы ворот, и мы очутились в поле.
IV
— Ты это что же? — купил? — спросил Мирон, указывая на книги.
В тоне его ни прежней почтительности, ни заискивания не было и в помине.
— Купил, — отозвался я.
— А сказывал — овес покупать едешь?
— Это, брат, ты сказывал, а не я! — поправил я.
— Ну? А хоть бы и я: на дело ведь надоумливал! Дешево бы взял!.. А ты ишь чего набрал!.. — Мирон неодобрительно покачал головой. — То-то думал я: жидок ты для купца!
Некоторое время мы ехали молча.
— На что тебе книжки-то! — заговорил опять Мирон. Мысль о них, видимо, не давала ему покоя.
— Читать.
— Эдакую уймищу? Это, брат, зачитаешься!!
Он опять качнул головой и собрал рот в виде комка.
— А пачпорт-то у тебя есть? — вдруг строго спросил он.
— А тебе на что?
— Да Бог же тебя знает, что ты такой? Может, тебя не возить, а по начальству я представить должон! Один вот возил такого же у нас по уезду с книжками, да до острога и довозился!
У меня было необыкновенно весело на душе; не малую роль в этом, играло и то, что я невольно населил чертями усадьбу Батеньковых; забавен был и мой встревожившийся возница; если бы я вез тигра, вероятно, он был бы обеспокоен гораздо меньше.
— Не сумлевайся, — в тон ответил я ему, — и паспорт есть, и бумагу особую на разъезды имею от начальства!..
— С печатью?
— С орлом даже!!
Мирон просиял.
— Ну, тогда дело свято! — воскликнул он. — А уж я было высаживать тебя хотел, ей-Богу! Долго ли до греха; сейчас тебя урядник за хвост и пожалуйте! По-настоящему, как я понимаю, все книжки собрать, да в землю зарыть следовает: один вред от них! Живет человек, как человек, можно сказать, хозяйственный, а почитает в книжку — и шабаш — сейчас коней воровать, либо пьянствовать почнет! На что ты их, скажи на милость, скупаешь?
— Не одни книжки, я всякую старину собираю: тарелки, чашки фарфоровые, серебро, все что придется…
— Ну, так, так, так!! — совсем успокоившись, сказал Мирон. — Это ничего, это дозволяется!
Он подхлестнул лошадок.
— Теперича к Павлихе, стало быть, едем?
— К Павловой! — поправил я.
— Ну вот и я тоже говорю! Это баба жох! — высокой нотой протянул Мирон. — Этой пальца в рот не клади-и-и! Эта облапошит!!
— А далеко до нее?
— До Павлихи-то? к полудням будем… Э-эх вы, развеселые! — воскликнул он, опять подхлестывая едва тащившихся коньков. Мирон принялся мне повествовать о местных помещиках, я его слушал краем уха и глядел по сторонам.
Кругом было приволье. Подувал легкий свежий ветерок; справа, среди жнивья, вставала семья из трех курганов в зеленых кустарниковых шапках; ни души не замечалось кругом.
Какая радость жить и бродить по свету!!
Солнце перешло за полдень, когда мы шагом перебрались по животрепещущему мосту через неподвижную, как бы застывшую узенькую речонку и въехали в тесный двор усадьбы Павловой.
Двухэтажный господский дом был невелик и более походил на петербургскую дачу, чем на помещичье обиталище.
Мирон остановился у крыльца, с которого нас созерцала босоногая девчонка лет двенадцати.
— Барыня дома? — спросил я, сойдя с брички.
Девчонка не отвечала и не двигалась.
— Ай уснула? — крикнул ей Мирон, — подь, умница, скорей, долож барыне, гость, мол, из Петербурга приехал!
Девчонка, как заяц, шарахнулась в комнаты. Там поднялся переполох: в одно из окон глянуло молодое, очень полное женское лицо, за ним выставилось другое, еще более круглое, потом бесцеремонно уставилась на меня какая-то тощая и носатая старуха свирепого вида.
Я остался около брички, наблюдая за носившимися по комнатам обитательницами дома, и делал вид, что обозреваю двор.
Минут через пять подъезд точно выстрелил тою же девчонкой: взволнованная и пылавшая, что кумач, она вылетела на крыльцо и остановилась.
— Велели иттить! — возгласила она.
Я последовал за нею и, миновав тесную переднюю, попал в гостиную; мягкую мебель покрывали чехлы, высокую стоячую лампу окутывала белая тряпка, картины на стенах были аккуратно закрыты газетами. В гостиной никого не было. Дверь, ведшая из нее в другие комнаты, была затворена, и за нею слышался шорох и неясный шепот: за мной, очевидно, подглядывали.
Прошло еще минут десять, и таинственная дверь наконец распахнулась: из нее сперва выставилась необычайных размеров грудь, а затем величественно появилась дама лет сорока, подрумяненная и с подведенными бровями. Видно было, что ее только что затянули в корсет и едва-едва втиснули в давно ставшее узким светлое платье; руки ее у плеч походили на окорока, и она несла их на манер борца, шествующего на парад.
За ней, взявшись под руки, скромно выступали две виденные мною девицы: обе обещали перещеголять телесными статьями маменьку, и обе, по-видимому, испытывали те же неприятности от корсетов и платьев. На пухлых устах мамаши играла приятная улыбка, но серые холодные глаза в плутовстве губ не участвовали, имели определенно неприятное выражение. Я представился и объяснил цель моего визита.
— Очень рады, очень рады, — любезно произнесла она. И в то же время глаза ее старались проникнуть не только в мою подоплеку, но и в мои карманы.
— Разумеется, у нас всего множество; мы не знаем даже, куда деваться от всех этих книг и безделушек! В старых дворянских фамилиях всегда, знаете, накапливается бездна интересных вещей!
— А книг у вас много?
— О, Господи, чего у нас нет! Они у меня такие любознательные, — она кивнула головой в сторону своих двух граций. — И фарфора сколько угодно. Удивляюсь я людям: теперь ведь, знаете, мода на фарфор, то и дело кто-нибудь приезжает покупать его. И деньги платят безумные, я этого не понимаю: странно, не правда ли? У нас и монеты есть замечательные: вы интересуетесь?
— Да, — ответил я, — и даже очень! Разрешите взглянуть на ваши собрания?
— Лили, Аннет, — обратилась хозяйка к дочерям, — приготовьте в столовой фарфор и коллекцию монет: она знаете где?
— Знаем! — сочно отозвались обе девицы. И они гуськом, потупясь и поджав бутонами губки, выбрались из гостиной.
У нас начался светский разговор. Всякий жест Павловой, даже повороты головы, сопровождался легким потрескиванием обоев; прислушиваясь, я сообразил, что обои здесь ни при чем и что эти звуки исходят от платья моей собеседницы, очевидно, собиравшегося разлететься в лоскутья. Не без опасения я ожидал свершения этого события и лицезрения во всей красе новой Евы.
Пока я соображал все это, хозяйка успела поставить меня в известность, что покойный муж ее происходил из семьи, «оставившей видный след в нашей литературе», что они записаны в шестой книге[19], что она певица и обворожила как сирена пением какого-то губернатора, что у дочерей ее чудесные голоса и т. д.
В голове у меня началась стукотня; я кивал головой, делал приятное лицо, подмыливал, а сам искоса посматривал на дверь, откуда должно было прийти избавление.
Она наконец отворилась, и показалась Лили — старшая дочка, раскормленная немного менее сестры. Не входя в комнату, она заявила:
— Готово, мама…
— Прошу! — благосклонно вымолвила хозяйка. Мы поднялись с мест, и я очутился в зале, где чахли два фикуса, отражался в длинном, потускневшем трюмо старый рояль.
Первое, что мне бросилось в глаза, была высокая и еще прямая ведьма, стоявшая опершись потемнелой, что мощи, рукой на рояль; на ней, как на огородном шесте с перекладиной, висел засаленный донельзя малиновый капот; седая голова ее тряслась, в другой, опущенной, руке она держала табакерку и платок, состоявший из одних табачных пятен.