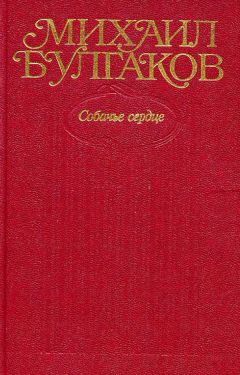Александр Шеллер-Михайлов - Над обрывом
— Слушаю-с, — степенно ответил Прокофий.
— Да ты сейчас же поди и накажи Грише, а то забудешь. Память-то тебе нынче изменяет…
Прокофий вышел.
— Ты, Елена, посылала в город за фруктами? — обратилась генеральша к Елене Никитишне.
— Все привезено, — ответила старуха. Мухортова вздохнула и обратилась к сыну:
— Вот Алексис упрекает, что на оранжереи тратимся. А какие у нас теперь оранжереи? Прежде все фрукты свои были, а теперь…
Потом она опять что-то вспомнила и обратилась к Елене Никитишне:
— Пожалуйста, Елена, присмотри, чтобы у всех были свежие перчатки. Прокофий совсем из ума выживает; в прошлое воскресенье бог знает в каких перчатках служил у стола, точно из трубы вынул, и все пальцы развороченные… Хорошо еще, что свои только были за обедом.
— Стар, совсем стар становится! — проговорила Елена Никитишна.
Егор Александрович горько усмехнулся.
— Я тебя впервые вижу такой взволнованной, — заметил он матери по-французски. — Точно царей ждем к обеду…
— Ах, Жорж, мы переживаем такие решительные минуты! — с грустью и пафосом ответила она, закидывая голову назад. — Надо сделать все, чтобы это знакомство кончилось победой. Алексис еще раз вчера повторил мне, что мы на краю пропасти. Это ужасно!
Она на минуту закрыла рукой глаза, точно стараясь не видеть разверстой перед нею пропасти.
— Конечно, я уверена, что ты, если захочешь, одержишь победу. А все же как-то жутко. Алексис меня так запугал в последнее время, что мне все мерещатся какие-то ужасы. Сны даже страшные вижу… право!
Она взглянула на часы и испугалась: было уже одиннадцать часов, а на ней был еще надет утренний наряд. Ей нужно одеваться. У нее процесс одевания занимал всегда так много времени. Она встала и пошла поцеловать в голову сына.
— Бедный мой мальчик, я знаю, что и тебе нелегко, — сказала она томным голосом.
Он ничего не ответил, тоже поднявшись с места и выходя из столовой. Какое-то враждебное чувство против матери шевелилось в его душе.
В столовой продолжался звон посуды. Елена Никитишна заставляла при себе перебрать все парадное серебро и хрусталь, чтобы убедиться в их чистоте. Потом она также тщательно освидетельствовала столовое белье. Пересматривая все, она в то же время перебрасывалась отрывочными фразами с приходившей и уходившей прислугой. На минуту в столовую забежал Гриша.
— Ты это что? Тебе приказано у ворот ждать? — сказала Елена Никитишна.
— Да я услышу, крестная! — ответил он.
— Ступай! ступай!
— А кого ждут-то?
— А вот приедут — увидишь!
— Важных господ?
— Ах, ты, постреленок! Говорят тебе: иди!
— Агафья Прохоровна говорит…
— Брысь, каналья!
Гриша скрылся.
— Видно, сегодня решать будут, — со вздохом обратилась Елена Никитишна к Прокофию.
— Что это решать? — спросил Прокофий.
— Сам-то не понял?.. Женить хотят Егора Александровича на Протасовой… Тоже нашли партию… Дед-то ее на моих глазах кабак содержал… Егору-то Александровичу не хочется, да женят… Дела-то уж очень плохи стали… Ну, смотри ты, старый, какие ты стаканы в буфет поставил?.. Ах, право, в хлеву бы вас держать… На, перетри!..
Она вынула несколько немытых стаканов и отставила их в сторону, придвинув к Прокофию.
— Вот как-то только они нашу Полю пристроят? — со вздохом сказала она.
— Бить бы ее надо; косу выдрать, вот что! — сурово заметил Прокофий, порывисто перетирая стаканы.
— Дурак неотесанный, так дурак и есть! Пользы-то что за косу таскать? Красоты от этого ей, что ли, прибавится?.. Не доглядели, так уж теперь не воротишь!..
На минуту разговор оборвался. Прокофий сосредоточенно тер стаканы, ворча себе под нос: «Ишь, проклятые, как испакостились, не ототрешь!» Елена Ннкитишна углубилась в пересмотр белья.
— Конечно, теперь Поле, может быть, и приданое, и все такое дадут, — продолжала Елена Никитишна. — Так-то тоже ничего бы не дали…
— Ишь чему обрадовалась! — проворчал Прокофий. — Стыда-то нет. Одной ногой в гробу стоишь, а такие речи говоришь!
— О, типун тебе на язык! Сам на ладан дышит, а других хоронит!.. — отплюнулась Елена Никитишна. — И какие я такие речи говорю? Ну, забаловалась девка, так этого не вернешь… Надо думать, как ее пристроить…
— Пристроишь! — отозвался сердито Прокофий. — Впервые у нас, что ли?
— Сама-то гуляла, так и другим потакаешь!
— Тьфу ты, тьфу! Пес старый! — обозлилась Елена Никитишна. — Нашел чем меня попрекать! Я, может быть, слезьми обливалась, когда меня на грех-то силой повели… Вы-то все только радовались тогда, потому через меня в люди вылезли… А теперь попрекать!.. На себя обернулся бы… Ты-то тоже знал, чай, кого брал…
Прокофий, в свою очередь, отплюнулся.
— С тобой не сговоришь! Покойницу в гробу, и ту не забыла…
— На твои же речи, дурак, отвечаю…
В эту минуту в комнату неторопливо вошел человек в черном фраке, в белом галстуке, с бакенбардами в виде котлет. Это был Данило Николаевич Волков, камердинер Егора Александровича. Сразу трудно было решить — лакей это или чиновник; степенность, сдержанность, солидность, внешняя порядочность, все это сразу бросалось в нем в глаза. Ему было лет двадцать восемь, хотя он смотрел гораздо старше своих лет. Лакейская жизнь не молодит, а он служил в лакеях с семнадцати лет. На его затылке уже виднелся зачаток плеши с медный пятак величиною.
— Прокофий Данилович, вас Егор Александрович зовут, — сказал он, обращаясь к Прокофию, и потом обратился к Елене Никитишне: — Выдайте шоколад, повар просил передать, что для мороженого нужно, да поскорей просил…
— Не горит, подождет! — ответила сухо Елена Никитишна. — До обеда-то еще далеко.
Данило Николаевич переминался с ноги на ногу, не решаясь, по-видимому, о чем-то заговорить.
— Правда это, Елена Никитишна, что я слышал? — начал он. — Конечно, это Агафья Прохоровна болтает, а все же… Говорят, что Егор Александрович женится на Марье Николаевне Протасовой.
— А тебе-то что? — спросила Елена Никитишна, пытливо взглянув ему в лицо.
Он, подняв брови, сделал совсем скромную мину невинной овцы.
— Так-с… Мне что же! — ответил он и еще осторожнее и смиреннее прибавил:- Я только потому, что как же тогда Пелагея Прокофьевна?
Елена Никитишна даже оставила разборку столового белья и скрестила около тальи руки.
— А Пелагея Прокофьевна тут при чем же? — сурово спросила она, и ее глаза сверкнули угрозой.
Но Волков выдержал ее взгляд и со вздохом заметил:
— Что же, шила в мешке не утаишь…
И тотчас же прибавил:
— И зачем это такую, с позволения сказать, сволочь генеральша допускает в дом, как эта Агафья Прохоровна или эта мать Софрония… И невинного человека этакие аспиды замарают, а не то, что… Тут уж, конечно, и со стороны видно…
Елена Никитишна презрительно усмехнулась.
— Ишь, какие глазастые выискались!.. А видишь, так и молчи…
— Это точно-с, — скромно согласился Данило. — Только жаль девицу… Такая, можно сказать, красавица и кротости…
Елена Никитишна еще презрительнее сверху вниз взглянула на него и спросила насмешливым тоном:
— Жениться, что ли, из жалости хочешь?
— Отчего же бы и не жениться? — почти радостно воскликнул лакей.
Елена Никитишна покачала головой.
— Губа-то, видно, не дура!..
Потом, отвертываясь от него, она проворчала:
— Нет, за такую-то невесту покланяться нужно…
— И покланялся бы, — начал Данило.
Но она перебила его:
— Ну, ну, бери шоколад! Сам торопил, а теперь лясы точишь… Ступай.
Она говорила грубо, как привыкшая властвовать барыня с слугой. Волков взял плитки шоколаду и вышел. Его слова сильно взволновали Елену Никитишну, точно он открыл ей нечто новое. Продолжая рыться в буфете, она с порывистыми движениями ворчала про себя:
«Выискался какой! Губа-то, видно, точно не дура, язык не лопатка, знают, где сладко! Я бы не прочь жениться! Что и говорить: кусок лакомый! Софья Петровна и Егор Александрович Полю не оставят, приданое дадут, мужа пристроят. Кому это не лестно. А Данилке чего лучше! Так бы сейчас в купцы и полез. Скаред человек! Уж теперь, ничего не видя в холопском своем звании, на проценты деньги господам дает. Четвертную займут, две возвращают. Жоха! Далеко пойдет».
На минуту она перестала перебирать вещи и с видом усталости присела, подперев голову рукой. Какая-то новая мысль вертелась в ее голове.
«В самом деле, как это никому нам в голову не приходило, что за Данилу можно выдать Полю? Не за чиновника же ее выдать? — Да с чиновником и нужды натерпится, знаем мы эту дрянь; а Данило копейку сбережет, Поле-то только он по сердцу не придется. Ну, да и то сказать: кто ей теперь по сердцу будет, когда она от Егора Александровича в омрачении находится? Сердце-то у нее горячее, а рассудку нет. Обезумела совсем!»