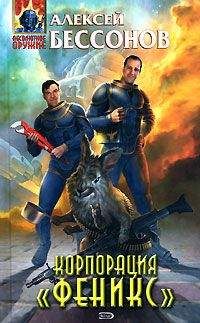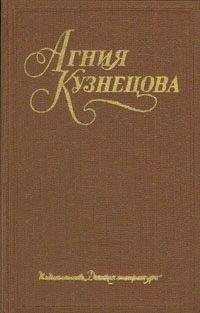Рустам Гусейнов - Ибо прежнее прошло (роман о ХХ веке и приключившемся с Россией апокалипсисе)
Паша и до сих пор иногда ломал голову над тем, с какой стати вообще пригласили именно его. Единственным гипотетическим объяснением мог служить разве что Пашин однокурсник, второй год как подвизавшийся в помощниках где-то в недрах Московской прокуратуры. Впрочем, Московская и Московская областная прокуратуры - не одно ведь и то же, однако другому объяснению взяться было просто неоткуда.
Поначалу он хотел отказаться. Соображения карьеры никогда не были для него самоцелью. И, вероятно, он отказался бы, если бы не Надя, за один вечер сумевшая убедить его в том, что это предложение - есть не что иное, как шанс, который каждому человеку дается однажды в жизни. Он, впрочем, и сам понимал, что отдельной квартиры и той зарплаты, которая предлагалась ему, в Ростове пришлось бы ждать еще очень долго. Что близость к Москве есть и само по себе немалое преимущество, имея в виду хотя бы не такое уж отдаленное время, когда сыну их придется определять свою судьбу. Но, конечно, наиболее серьезным среди Надиных аргументов он не мог не признать тот, что теория без практики мертва, что уже пятнадцать лет он изучает юриспруденцию только по книгам, что в должности прокурора сам он только и сможет узнать те реальные преимущества, которые дает советская конституция в каждодневной юридической практике. Надя, конечно, умела быть убедительной, когда оказывалась чем-то всерьез заинтересована.
Они приехали в Зольск холодным солнечным утром 8 марта. На привокзальной площади он купил Наде букетик мимоз, а инструктор райкома, встречавший их, поинтересовался, знают ли они, где и когда было принято решение о праздновании Международного Женского дня. Паша знал только, что инициатива исходила от Клары Цеткин. Инструктор сообщил, что решение было принято в Копенгагене в 1910 году, на 2-й Международной конференции социалисток. Инструктор улыбался им радушно, но как-то и снисходительно; ограничился политинформацией, с праздником Надю так и не поздравил.
Их ждала на площади райкомовская "эмка". Через несколько минут они были уже на Валабуева, машина заехала во двор дома No 18 и остановилась у подъезда. Инструктор, выйдя из машины, первым делом стал зачитывать им вслух мемориальную табличку, висящую на стене. Но, не дочитав последней фразы, он вдруг прервался и, расплывшись в улыбке, приподнял фетровую шляпу.
- Познакомьтесь, - сказал он. - Это Павел Иванович Кузькин, наш новый прокурор. А это, Павел Иванович, ваша соседка - боец культурного фронта, очаровательная Вера Андреевна. Прошу любить и жаловать.
- Здравствуйте. С праздником вас, - сказал ей Паша.
Он почему-то ярче всего запомнил из этого утра, как хрустел у них у всех под ногами свежевыпавший снег.
Вера Андреевна торопилась тогда куда-то. Она вышла из подъезда в коричневом драповом пальто с огромными черными пуговицами и в черной каракулевой шапочке-таблетке.
Умываясь под струей обжигающе холодной воды, Паша думал о ней. Он вспоминал вчерашний разговор их, и почему-то задним числом очень раздражала его в нем одна собственная фраза. "Вы разве без жены идете?" - спросила она его об этом дне рождения. "С женой, - ответил он. - Ну и что?" Вот это "ну и что?" почему-то казалось ему теперь настолько неуместным и вздорным, что он даже постанывал тихонько, припоминая. "Нет, ничего," ответила она и головой покачала, и чуть пожала плечами.
Чистя зубы порошком, Паша ожесточенно скалился сам себе в зеркале. Почему вообще в последнее время он думает о ней все время? Несколько раз на дню вспоминает их последнюю встречу, либо представляет себе, что скажет ей в следующую. Ведь, если сообразить теперь, этот их разговор в библиотеке наполовину обдумал он заранее - исходя из своих представлений о том, что могло бы ей понравиться в нем. Почти как школьник, готовился к свиданию. Но ради чего? Что ему надо от нее? Что хочет он этим добиться? Ведь рассуждая трезво - ничего. Ничего.
Вытираясь махровым полотенцем, Паша столь энергично тер себе голову, будто вознамерился вытрясти из нее что-то лишнее.
На кухне, когда он вошел туда, Игорь как раз закончил завтракать и, уже стоя, допивая чай из стакана, смотрел в учебник, лежавший на столе. Это был десятилетний мальчишка, лицом отчетливо похожий на отца. Легко различимы были в нем те же серьезные, твердые черты, что и у Паши. Нелюбимый "Русский язык" он как всегда зубрил в последний момент перед занятиями.
- Пап, привет, - сказал он, захлопнул учебник и запихнул его в ранец. - Я побежал. Встретишь меня сегодня?
- Если дождя не будет. Давай-ка по буквам: "промокашка".
Игорь на секунду задумался, потом состроил кислую физиономию.
- Па-ап, ну, какая еще промокашка. Кому это все надо? Скоро при коммунизме и промокашек никаких не будет, все будут на пишущих машинках печатать. Ты сам подумай, разве что-нибудь изменилось бы в истории, если б Ленин писал "революция" через "а"? Ничего бы не изменилось. Все бы все равно поняли. Так зачем тогда голову забивать? Столько времени зря тратится, когда вокруг столько важных дел. Лучше бы ввели, чтобы с первого класса физику изучать, - Игорь застегнул портфель и еще на секунду задумался. - Про-ма-каш-ка, - проговорил он не очень уверенно.
- Про-мо-кашка, - поправил Паша.
- Но ведь от слова "макать"!
- От слова "промокнуть".
- Глупости какие, - рассердился Игорь. - Кому это надо? У нас сегодня четыре урока. Я пошел.
Он перекинул ранец через плечо и вышел из кухни. Через секунду хлопнула входная дверь.
Паша достал из навесного шкафа увесистую металлическую кофемолку, рассеянно покрутил ручку, высыпал кофе в медную турку, залил водой из-под крана, поставил на примус, развел огонь. Покуда кофе варился, он сходил в прихожую, откинул крышку почтового ящика на входной двери и достал оттуда свежий номер "Правды".
Вернувшись на кухню, он, поглядывая на примус, соорудил себе пару бутербродов с сыром, положил их на тарелку, вылил заварившийся кофе в большую керамическую кружку и с газетой подмышкой отправился в гостиную.
В гостиной, куда вошел он, было одно окно - с видом на тополиные ветви. Мебель в ней стояла скромная: круглый потрепанный стол, деревянные стулья, комод, книжные полки, старый платяной шкаф в углу. У окна имелась пара подремонтированных переобитых кресел и журнальный столик. Паша опустил на столик тарелку и кружку с кофе, устроился в кресле, развернул газету, и тогда на колени ему упал почтовый конверт. Он взял его в руки. На конверте в обратном адресе значилось Вислогузы.
Это было письмо от Натальи Васильевны - Пашиной приемной матери. Паша отхлебнул кофе и разорвал конверт. Наталья Васильевна писала как всегда крупным детским почерком со множеством ошибок. Писать она научилась не так давно. Написано было на линованном листке из школьной тетради.
"Пашенька, Наденька, - писала Наталья Васильевна. - У нас беда. Третьего дня наш Глебушка с утра, как обычно, ушел на работу, а к ночи домой не возвратился. Ждала, ждала я его, да и бросилась, наконец, искать, расспрашивать - а никто не видел и не знает. Побежала я к нашему председателю, а уж он спать лег, разбудила его. Спрашиваю его, вижу, что знает он что-то, глазами косит, да молчит. Я, конечно, в слезы, Христом-Богом его молю, чтобы сказал. Ничего не знаю, говорит, только вижу, что врет мне. Ступай, говорит, к оперуполномоченному, у него спроси. А опер-то наш в Краснорудном, за восемь верст. Ночь на дворе. Что ж, а нечего делать, бросилась я бегом. Думала уж, помру дорогой. Прибежала, стучусь, бужу его. Вышел он ко мне злой, как черт. Чего прискакала, говорит. Арестовали мы твоего гаденыша. Сама будто не знаешь, что враг он народа лютый. Батюшки вы мои, принялась я тут волосы на себе драть. Это Глебушка-то враг народа? Это Глебушка-то лютый? Да неужто не вся станица знает, что в жизни он мухи не обидел. Стала я расспрашивать у него, в какой он тюрьме, да к какому начальнику мне идти. А он только руки в карманы заложил и, равно на вошь, на меня смотрит. Незачем тебе, говорит. После узнаешь. Уж я и молила его, уж я и на коленях стояла. Только дверью он хлопнул, и весь ответ. Под забором в Краснорудном я и переночевала. За ночь все глаза выплакала. Наутро, как из дома он выходить, снова его встречаю. А уж он с крыльца, только увидел меня, сразу за кобуру. Ну, говорит, если через пять секунд мне еще тебя видно будет, то и тебя арестую, как на духу, слово даю. Испугалась я, правду сказать. Кому ж ведь, думаю, тогда о Глебушке хлопотать придется. Бросилась от него бежать, только скоро упала. Не стал он меня трогать. И уж сама не знаю, как добралась я тогда до дома. С того уж полутора суток лежу на кровати, не могу встать. Плачу только, а куда идти, что делать, не знаю. Милые вы мои. Пашенька. На тебя только вся и надежда. Ты-то все понимаешь в этих делах. Приезжай ты поскорее в Вислогузы. Или, если теперь не можешь почему-то, так хоть попробуй телефоном разузнать у нашего начальства. Ведь что же это такое, милые вы мои - ни за что, ни про что человека в тюрьму упрятали, и даже разговаривать с матерью не хотят. Извелась я за эти три дня, как за три года. Боюсь, помру скоро.