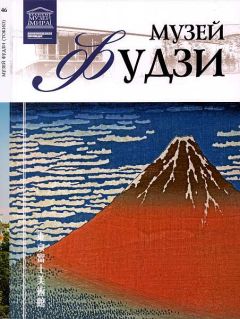Максим Горький - Том 22. Жизнь Клима Самгина. Часть 4
— А как Безбедов?
— Прислал письмо из Нижнего, гуляет на ярмарке. Ругается, просит денег и прощения. Ответила: простить — могу, денег не дам. Похоже, что у меня с ним плохо кончится.
У Самгина с языка невольно сорвалось:
— Мне кажется, — ты едва ли способна прощать.
Он ожидая, что женщина ответит резкостью, но она, пожав плечами, небрежно сказала:
— Почему — не способна? Простить — значит наплевать, а я очень способна плюнуть в любую рожу.
«Никогда она не говорила так грубо», — отметил Самгин, испытывая нарастание тревоги, ожидая какой-то неприятности. Движения и жесты ее порывисты, угловаты, что совершенно не свойственно ей.
«Расстроена чем-то…»
Он торопливо спросил: где она была, что видела? Она дважды посетила Лувр, послезавтра идет в парламент, слушать Бриана.
— Вчера была в Булонском лесу, смотрела парад кокоток. Конечно, не все кокотки, но все — похожи. Настоящие «артикль де Пари» и — для радости.
И, озорниковато прищурив правый глаз, она сказала:
— Припасай денежки! Тебе надобно развлечься, как вижу, хмуро настроен!
— А мне кажется, что это ты…
— Я? Да! Я — злюсь. Злюсь, что не мужчина. Закурив папиросу, она встала, взглянула на себя в зеркало, пустила в отражение свое струю дыма.
— Была я у генеральши Богданович, я говорила тебе о ней: муж — генерал, староста Исакиевского собора, полуидиот, но — жулик. Она — бабочка неглупая, очень приметлива, в денежных делах одинаково человеколюбиво способствует всем ближним, без различия национальностей. Бывала я у ней и раньше, а на этот раз она меня пригласила для беседы с Бердниковым, — об этой беседе я тебе после расскажу.
Она говорила шатая из угла в угол, покуривая, двигая бровями и не глядя на Клима.
— Я, наивная, провинциальная тетеха, обожаю, когда меня учат уму-разуму, а генеральша любит это бесплодное ремесло. Теперь я знаю, что с Россией — очень плохо, никто ее не любит, царь и царица — тоже не любят. Честных патриотов в России — нет, а только — бесчестные. Столыпин — двоедушен, тайный либерал, готов продать царя кому угодно и хочет быть диктатором, скотина! Кстати: дачу Столыпину испортили не эсеры, а — максималисты, группочка, отколовшаяся от правоверных, у которых будто бы неблагополучно в центре, — кого-то из нейтралистов подозревают в дружбе с департаментом полиции.
Небрежно сообщив это, она продолжала говорить о генеральше.
— Люди там все титулованные, с орденами или с бумажниками толщиной в библию. Все — веруют в бога и желают продать друг другу что-нибудь чужое.
Самгин смотрел на ее четкий профиль, на маленькие, розовые уши, на красивую линию спины, смотрел, и ему хотелось крепко закрыть глаза.
Она остановилась пред ним, золотистые зрачки ее напряженно искрились.
— Если б я пожелала выйти замуж, так мне за сотню — за две тысяч могут продать очень богатого старичка…
Клим Иванович Самгин, чувствуя себя ослепленным неожиданно сверкнувшей тревожной догадкой, закрыл глаза на секунду.
«Что могло бы помешать ей служить в департаменте полиции? Я не вижу — что…»
Сняв очки, он стал протирать стекла куском замши, — это помогало ему в затруднительных случаях.
— Ты что съежился, точно у тебя колики в желудке? — спросила она, и ему показалось, что голос Марины прозвучал оглушительно.
— Тяжелые мысли вызываешь, — пробормотал он. Она снова начала шагать, говоря вполголоса и мягче:
— Да. Невесело. Теперь, когда жадные дураки и лентяи начнут законодательствовать, — распродадут они Россию. Уже лезут в Среднюю Азию, а это у нас — голый бок! И англичане прекрасно знают, что — голый…
Она утомительно долго рассуждала на эту тему, считая чьи-то деньги, называя имена известных промышленников, землевладельцев, имена министров. Самгин почти не слушал ее, теснимый своими мыслями.
«Сектантство — игра на час. Патриотизм? Купеческий. Может быть — тоже игра. Пособничество Кутузову… Это — всего труднее объяснить. Департамент… Все возможно. Какие идеи ограничили бы ее? Неглупа, начитанна. Авантюристка. Верует только в силу денег, все же остальное — для критики, для отрицания…»
И Клима Ивановича Самгина почти радовало то, что он может думать об этой женщине враждебно.
— Однако — пора завтракать! — сказала она. — Здесь в это время обедают. Идем.
Она вышла в маленькую спальную, и Самгин отметил, что на ходу она покачивает бедрами, как не делала этого раньше. Невидимая, щелкая какими-то замками, она говорила:
— Видела Степана, у него жену посадили в Кресты. Маленькая такая, куколка, бесцветная, с рыбьей фамилией…
— Сомова.
— Кажется — так. Он присылал ее ко мне один раз. Он настроен несокрушимо. Упрям. Уважаю упрямых.
Вышла. На плечах ее голубая накидка, обшитая мехом песца, каштановые волосы накрыты золотистым кружевом, на шее внушительно блестят изумруды.
— Что — хороша Мариша? — спросила она.
— Да.
— То-то.
Завтракали в ресторане отеля, потом ездили в коляске по бульварам, были на площади Согласия, посмотрели Нотр Дам, — толстый седоусый кучер в смешной клеенчатой шляпе поучительно и не без гордости сказал:
— Это надо видеть при луне.
— Московский извозчик не скажет, когда лучше смотреть Кремль, — вполголоса заметил Самгин, Марина промолчала, а он тотчас вспомнил: нечто подобное отмечено им в поведении хозяйки берлинского пансиона. — «У нас, русских, нет патриотизма, нет чувства солидарности со своей нацией, уважения к ней, к ее заслугам пред человечеством», — это сказано Катковым. Вспомнилось, что на похороны Каткова приезжал Поль Дерулед и назвал его великим русским патриотом. Одолевали пестрые, мелкие мысли, с досадой отталкивая их, Самгин нетерпеливо ждал, что скажет Марина о Париже, но она скупо бросала незначительное:
— Гулевой городок, народу-то сколько на улицах. А мужчины — мелковаты, — замечаешь? Вроде наших вятских…
Искоса поглядывая на нее, Самгин подумал, что она говорит пошленькое нарочно, неискренно, маскируя что-то.
Она предложила посмотреть «ревю» в Фоли-Бержер. Поехали, взяли билеты в партер, но вскоре Марина, усмехаясь, сказала:
— Следовало взять ложу.
Да, публика весьма бесцеремонно рассматривала ее, привставая с мест, перешептываясь. Самгин находил, что глаза женщин светятся завистливо или пренебрежительно, мужчины корчат слащавые гримасы, а какой-то смуглолицый, курчавый полуседой красавец с пышными усами вытаращил черные глаза так напряженно, как будто он когда-то уже видел Марину, а теперь вспоминал: когда и где?
— Как думаешь: маркиз или парикмахер? — прошептала она.
— Нахал. И, кажется, пьян, — сердито ответил Самгин.
На сцене разыгрывалось нечто непонятное: маленький, ловкий артист изображал боксера с карикатурно огромными бицепсами, его личико подростка оклеено седой, коротко подстриженной бородкой, он кувыркался на коврике и быстро, непрерывно убеждал в чем-то краснорожего великана во фраке.
— Это — Лепин, кажется — мэр Парижа или префект полиции, — сказала Марина. — Неинтересно, какие-то домашние дела.
Появлялись, исчезали певицы, эксцентрики, танцоры негры. Марина ворчливо заметила, что в Нижнем, на ярмарке, все это предлагается «в лучшем виде». Но вот из-за кулис, под яростный грохот и вой оркестра выскочило десятка три искусно раздетых девиц, в такт задорной музыки они начали выбрасывать из ворохов кружев и разноцветных лент голые ноги; каждая из них была похожа на огромный махровый цветок, ноги их трепетали, как пестики в лепестках, девицы носились по сцене с такой быстротой, что, казалось, у всех одно и то же ярко накрашенное, соблазнительно улыбающееся лицо и что их гоняет по сцене бешеный ветер. Потом, в бурный вихрь пляски, разорвав круг девиц, вынеслась к рампе высокая гибкая женщина, увлекая за собой солдата в красных штанах, в измятом кепи и с глупым, красноносым лицом. Сотни рук встретили ее аплодисментами, криками, стройная, гибкая, в коротенькой до колен юбке, она тоже что-то кричала, смеялась, подмигивала в боковую ложу, солдат шаркал ногами, кланялся, посылал кому-то воздушные поцелуи, — пронзительно взвизгнув, женщина схватила его, и они, в профиль к публике, делая на сцене дугу, начали отчаянно плясать матчиш.
— Ого! Наглядно, — тихонько сказала Марина, и Самгин видел, что щека ее густо покраснела, ухо тоже налилось кровью. Представив ее обнаженной, как видел на «Заводе искусственных минеральных вод», он недоуменно подумал:
«Этот цинизм не должен бы смущать ее». Танцовщица визжала, солдат гоготал, три десятка полуголых женщин, обнявшись, качались в такт музыки, непрерывный плеск ладоней, бой барабана, пение меди и струн, разноцветный луч прожектора неотступно освещал танцоров, и все вместе создавало странное впечатление, — как будто кружился, подпрыгивал весь зал, опрокидываясь, проваливаясь куда-то.