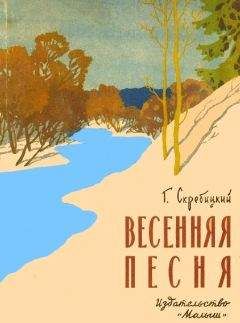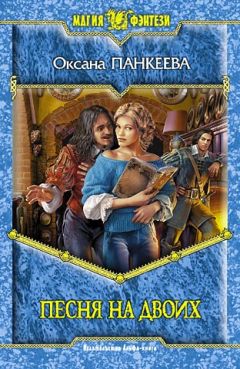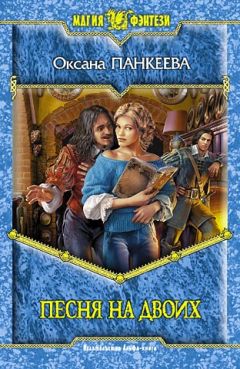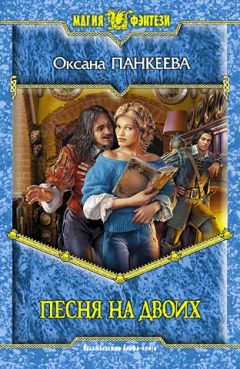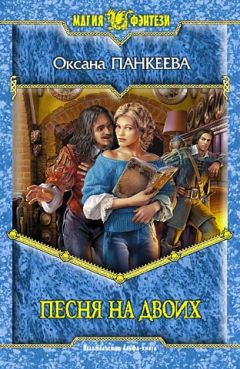Георгий Гребенщиков - Ханство Батырбека
Кроме того, он сообразил, что если к утру наступит холод, то вся степь покроется скользким льдом, и скот не будет в состоянии дойти до аула…
Громко и торопливо забасил Байгобыл, созывая своих помощников и приказывая им как можно скорее заворачивать скот и гнать вслед за ним домой… Он поехал впереди табуна, отыскивая наиболее прямое направление к аулу и то и дело, подавая голосом знать, куда надо ехать.
Мокрый, в огромной намокшей капе, он ехал шагом, то и дело, ныряя в размокшем глубоком снегу. Но вот лошадь под ним обессилела и стала…
Он понимал, что идти пешком теперь немыслимо. Он должен брести в водянистом снегу и, черпая его в плохие обутки, отморозить ноги. Остановившись, он долго ждал в раздумье, и когда мимо него проходили лошади, поймал одну и, не переседлывая, пересел на нее, бросив прежнюю. Но эта лошадь оказалась слабой, обессиленной бескормицей и скоро легла, протащив его не более версты. Тогда, стоя в мокром снегу, Байгобыл почуял, что теряет уменье думать и понимать… Обувь его уже промокла, и ноги шлепали в воде.
Он дрожал всем телом и стучал зубами, не понимая, что ему надо делать…
Вдруг он начал кричать громким, протяжным, воющим криком, но никто не слышал его, и он понял, что кричать бесполезно. Сзади приблизился негромко плачущий и словно застывший в полусогнутой позе на понурой измученной лошади молодой киргизенок. Это был сын Байгобыла — Куанышка.
Увидев сына, Байгобыл взвыл отчаянным жалобным воем и, точно озлобившись на кого-то, быстро зашагал вперед, увязая в разжиженном и тяжелом, как песок, снегу.
От неимоверных усилий сам он скоро согрелся, но ноги его все больше коченели в холодной воде и росли в объеме, облепленные комьями леденеющего снега…
Куанышка ехал следом и, все так же скорчившись и согнувшись, негромко, будто ленясь, выл. Но Байгобыл не видел теперь ни лошадей, не слышал плача сына, не думал ни о чем — он только шагал по снегу, едва таща за собой ноги, ставшие страшно тяжелыми и чужими… Тьма обступила его взор и душу, он не знал, куда идти, и шел без разбора, со страшным трудом переставляя все больше коченевшие ноги…
Другого подпаска, Карабаева сына, не было ни видно, ни слышно. Неизвестно, уехал ли он за лошадьми в аул, или отстал и потерялся. Да неизвестно и то, куда ушли лошади: добралась ли хотя часть их к аулу, здесь ли они поблизости, или растерялись по степи, поглощенной тьмой и неизвестностью…
К утру ударил мороз, и вся обледеневшая степь стала как в сталь закованной. Блестела, звенела и синела, как необъятное застывшее море.
В ауле Батырбека стоял отчаянный рев перепуганных несчастных людей и голодного скота, не выпущенного сегодня на волю.
Карабай, согнутый и трясущийся, с палкой в руках, едва держась на скользкой обледенелой земле, бродил по двору и плакал…
Началась метель с резко бьющей в лицо снежной крупой. Нельзя было повернуть лицо на ветер: выхлестывало глаза. Время подходило к полудню, а никого не было видно: ни Байгобыла, ни его помощников. Во дворе стояли семь лошадей с обмерзшими ногами, еле добравшихся перед утром к аулу. Это были наиболее выносливые и сытые. Ясно, что все остальные погибли.
Никто в ауле не знал, где находится Батырбек с караваном, но догадывались по времени, что джут и его захватил в пути. Когда же на другой день к вечеру он и Сарсеке показались в дымке вьюги возле самого аула, — все ахнули и громко завопили вместо приветствия. Оба они шли пешком: Батырбек вел в поводу одного верблюда, а Сарсеке — измученного и еле живого Сивку. Ахметбайки и остальных верблюдов не было, и никто о них пока не спрашивал.
На мертвецов походили Сарсеке с Батырбеком. Глаза их ввалились, лица посинели, руки и ноги стучали, как деревянные, а рты не открывались и не могли произнести ни одного внятного слова…
Метель все усиливалась, переходя в буйную снежную бурю, с пронзительным победным криком носившуюся по раздольной, зеркальной гололедице.
VII
Смертельно застонала степь…
Джут мертвыми ледяными объятиями охватил ее из края в край.
В одни сутки погибли сотни тысяч киргизского скота, захваченного в степи на пастбище, закоченели десятки пастухов, пристывших к гололедице.
Целые табуны лошадей и жеребят тесными группами, рассеянными одиночками окоченели, стоя в глубоком снегу, и, обледенелые и опушенные снегом, представляли выставку уродливых изваяний, страшных в своем мертвом безмолвии и неподвижности…
Местами рядом с лошадьми, прильнув к ним и застывши вместе с ними, стояли, сидели и лежали человеческие статуи, как в броню закованные в ледяную кору и подернутые узором из снежных кружев. И по всей степи днями и ночами шел дикий волчий пир… Злые и тощие от долгой зимней голодовки волки обжорливо набросились на трупы лошадей, быстро тяжелели и отлеживались тут же на кровавых костях, среди целых костров лошадиного мяса…
Когда через неделю после дождя едва двигающийся, больной и обмороженный Сарсеке вместе с Исхаком и старым Карабаем поехали разыскивать погибших пастухов, они наткнулись на мертвый табун и не решились приблизиться к нему…
Всегда смелый и страстный зверолов Сарсеке пришел в ужас от обилия и наглого бесстрашия волков, остервенело или устало грызших трупы… Сарсеке окаменел от изумления и отчаяния, когда, поодаль от застывшего табуна, увидел еще более жуткое зрелище.
Там, пригнувшись к гриве, на мертвой, опустившей зад и увязшей в заледенелом снегу лошади, сидел маленький Каунышка. Он весь блестел на солнце, будто вместе с лошадью был выкован из серебра…
А впереди его, широко шагнувший, с распростертыми руками и запрокинутой назад черной головой, в окостенелом капе стоял Байгобыл. Похоже, было на то, будто он страшно быстро бежал и отчаянно кричал в небо аллаху, но, не дождавшись ответа, так и застыл, утопая в снегу…
Широкий череп Байгобыла далеко был виден, маяча чернотой давно не бритых волос. Когда подъехал Сарсеке, со лба Байгобыла со зловещим криком слетела ворона, безуспешно пытавшаяся выклюнуть застывшие открытые глаза…
Взвыл старый Карабай. Как мертвый молчал Сарсеке, и как сумасшедший бросился бежать потрясенный Исхак. Сильно стегая плетью по худым бокам своей лошади, то и дело скользившей и падавшей на ледяных прогалинах, он то соскакивал с нее, ведя ее в поводу, то вновь садился и вновь стегал ее, убегая к аулам.
Не смели вернувшиеся киргизы о подробностях виденного говорить больному, простуженному Батырбеку.
Не смели и не могли больше плакать бабы.
Перестали смеяться дети. Все скованы были молчанием и тоской… Молчаливо и равнодушно выслушал Карабай весть о том, что его сын Ахметбайка, отставший в пути от каравана, жив, и, озлобленный, лежит где-то у чужих киргизов.
Никого не изумило и не нарушило молчание даже то, что на восьмой день после дождя к аулу каким-то чудом спасшийся пришел измученный, еле живой верблюд — с вьюком муки и разных товаров, купленных Батырбеком в городе… Среди этих товаров были и подарки купца, и Батырбек, развернув их, бросил под порог, злобно и воюще выругавшись…
Он вспомнил, что теперь купец совсем обесценит сырье, так как обнищавшая степь завалит город остатками своего достояния — кожами сгинувших от голода животных…
— Ой, аллах, аллах… — стонал Батырбек, сваливаясь на постель.
Тяжело ему было читать на лицах окружающих отпечаток всеобщего отчаяния.
Знал он, с какой неукротимой жестокостью джут косит киргизский скот.
Но не хотел говорить об этом и не глядел на свет божий.
А скот все падал и падал, как трава под косой.
У Батырбека давно уже вышел запас домашнего корма. Оставалось несколько копен старого полусгнившего сена, которое по маленьким охапкам давали лишь не многим счастливцам — дойным коровам и лучшим лошадям. Верблюдам давали в три дня по шарику густо намешанного теста в кулак величиной. Выносливые верблюды довольствовались этим и целые дни и ночи стояли во дворах, чавкая, глотая и снова отрыгивая свою жвачку.
Овец Батырбек велел переколоть больше половины, питая остальных сенной трухой, которую не могли захватить губы крупных животных.
Весь остальной скот выгоняли на сопки, давно оголенные и каменистые. Дрожа от ветра и не имея сил копать ледяной снег отбитыми ногами, скот стоял там целыми днями, покорно и уныло поджидая голодную смерть.
Некоторые лошади, постарше и поопытнее, спускались к опушке горы, где снег был мельче и где из-под него виднелись редкие стебли сухой травы, и начинали медленно бить передними копытами в ледяную корку. Они били долго, вспотев от усилия, и когда им удавалось разбить лед, они разгребали снег на каком-нибудь квадратном аршине и с жадностью жевали скудную добычу… Но, увидев это, другие лошади приходили целой гурьбой и оттесняли труженицу, производя между собой давку и драку.