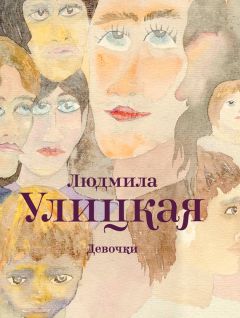Людмила Улицкая - Путешествие в седьмую сторону света
- Можно я пойду домой? - прошептала Таня.
- После четвертого урока ты пойдешь домой, - твердо сказала учительница.
Первый раз в жизни Таня столкнулась с чужой волей, с насилием в его самой легкой форме. До этого момента желания окружающих и ее собственные счастливо совпадали, и ей в голову не приходило, что может быть иначе... А это и была взрослая жизнь - подчинение чужой воле... С этого момента оказалось: чтобы по-прежнему быть счастливой, надо быть уверенной, что ты сама желаешь именно того, чего от тебя требуют взрослые... Она, разумеется, этого не думала, скорее эта идея накрыла ее сверху и начала подминать под себя...
До конца четвертого урока она просидела за партой в столбняке, не выходя даже на перемены. Девочки, от которых она ждала дружбы, оказались злыми обезьянами: они скакали вокруг нее, дергали за косы, тыкали пальцами и обидно смеялись. Таня силилась понять, за что они ее невзлюбили, и не догадывалась, что они таким способом лишь выражают свой интерес к ней. Она и представить себе не могла, что через несколько месяцев эти же самые девочки будут отчаянно ссориться между собой и даже драться за право стоять с ней в паре, дежурить по классу и просто идти по коридору.
Таня, как выяснилось, обладала редким и трудно определимым качеством: все, что она ни делала - завязывала бант, обертывала тетрадь, стряхивала с рук капли воды после мытья своим собственным размашистым жестом вверх кистями, морщила нос при улыбке, - каждое ее движение сразу становилось заметным, популярным, а сама она - образцом для подражания. Даже ее манеру, задумавшись, прихватывать зубами пушистый хвостик косы переняли все, у кого были косы...
Несмотря на возникшее девчачье обожание, школу Таня так и не полюбила. Окруженная десятками девочек, добивающихся ее внимания и дружбы, она чувствовала себя более одинокой, чем в Звенигороде. Еще более одинокой чувствовала себя только Тома Полосухина, забитая, с малиновой шелушащейся обводкой вокруг рта двоечница с последней парты. Съежившаяся, сутулая девочка, с которой никто не хотел сидеть... Тома не принадлежала к числу Таниных обожательниц - межзвездные расстояния пролегали между ними...
8
Скромную, очень скромную специальность выбрала себе Елена. Но никогда не пожалела о своем выборе. Нравилось ей в этой работе все: специальный стол с подсветкой, кульман и разные сорта бумаги, с которой приходилось работать, - мутноватая льдистая калька, рыхлый полуватман, сизые скользкие синьки. Нравился и запах туши, и шорох карандаша. И даже мелкие незначительные операции, без которых не обойтись, но которые тоже требуют умения, вроде заточки карандашного грифеля...
Все эти первоначальные вещи она поняла еще во время обучения. Потом, поработав год-другой, она полюбила и более существенную, очень успокоительную сторону чудесной профессии чертежника - каждый предмет, показывая себя, поворачивался в трех проекциях, и этого было совершенно достаточно, чтобы он был описан полностью, не оставляя в себе никакой тайны, никакого уединенного места. Все как есть...
Порой Елене казалось, что все явления, как и все предметы, можно описать в трех позициях - анфас, профиль, вид сверху. Не только деталь танкового мотора, но и ветер, и боль в животе, и любое сказанное слово.
Ее учителем был первый муж, Антон Иванович Флотов, великий мастер чертежного дела, даже можно было сказать, искусства. Они познакомились в укромном и незначительном месте, на курсах черчения, где Елена была студенткой, а он - преподавателем. С виду он был старообразен, опрятен и сух, хотя было ему всего двадцать девять. Ей едва исполнилось семнадцать, и она только-только вырвалась из подмосковной сельскохозяйственной коммуны, удивительного и в высшей степени странного места, где проходило ее детство. Община эта была толстовская, и руководил ею родной отец Елены, Георгий Иванович Мякотин.
Девочка, выросшая в столь особых, совершенно уникальных обстоятельствах, грамоте обученная по толстовским детским книжкам, с детства доившая коров, не в шутку, а всерьез работавшая и в поле, и на общественной кухне, молчаливая слушательница застольных дискуссий о Вивекананде и Карле Марксе и согласного пения народных и народнических песен, чувствовала себя в Москве одинокой в окружении чуждого и опасного мира. Бабушка Евгения Федоровна была единственным человеком, которого Елена не дичилась.
С Антоном Ивановичем, будущим мужем, соединило Елену более чем любовь, подспудное чувство иррациональной вины за свою "отдельность", "неслиянность" с веселой и дружной общностью невинных людей. Оба они ощущали свою социальную неполноценность, но не прикрывались защитительной политической активностью, с биением себя в грудь и проклятиями в адрес неудачных родителей. Они принадлежали к другой, смиренной породе людей, предпочитающих тихое уползание в периферию жизни, под кустик, под камешек, в теневое, незаметное место.
Антон Иванович происходил из семьи архитекторов и строителей, частично эмигрировавшей, частично уничтоженной, и все его наследство составляла именно его профессия чертежника. Он из-за революции не успел получить немецкого инженерного образования, которое давали мальчикам в их семье. Чертежник же он был первоклассный, работал на большом заводе конструктором, а также вел курс черчения в заводском рабфаке.
Осторожный и внимательный, Антон Иванович год присматривался к Елене, прежде чем подойти, потом год встречался с ней по воскресеньям и женился лишь на третий год знакомства - без пылкой любви, но серьезно и обдуманно, как все, что он делал.
Родители Елены на свадьбу не приехали: отец был занят посевной и матери ехать не разрешил. Георгий Иванович приглашал дочь с зятем переезжать к ним, на Алтай. Дела в коммуне шли неплохо, и хотя с властями было много разнообразных трений, не могли коммунары предполагать, что через год-другой всех арестуют, посадят по тюрьмам и лагерям, сошлют в такие места, где землю кайлом не расшибешь.
Тихо и мирно жили Антон и Елена в бабушкиной квартире. Зарплаты хватало на скромную жизнь, а другой Елена и не знала. Во всяком случае, после ее коммунарского детства московская жизнь казалась ей легкой и привольной. Самым интересным для нее было, пожалуй, черчение.
Начальство Елену хвалило, отмечало как старательную и способную девушку. Поскольку в бумагах ее было написано, что она из коммуны (это по недоразумению выглядело хорошо - что коммуна толстовская, не было нигде сказано), Елене даже предложили учиться дальше, на рабфаке, но ей этого совсем не хотелось. Она с удовольствием сидела за кульманом, и даже Антон Иванович удивлялся ее рвению к работе.
Однажды ей приснился сон, что Антон Иванович говорит ей какую-то простую обыденную фразу, а она видит эту фразу не обыкновенным образом, анфас, а как бы в профиль: узкая, как рыбья мордочка, слегка волнистая и вытянутая кверху острым треугольником. Жаль только, что, проснувшись, вспомнить фразу она так и не смогла. Но самый этот сон сохранился, не выветрился. После него осталась догадка, что каждая фраза имеет свою геометрию, только надо напрячься, чтобы ее уловить.
"Есть в словах что-то чертежное, - размышляла она. - Есть "чертежность" во всем существующем, но высказать это невозможно".
Она пыталась поговорить об этом с Антоном Ивановичем, тот лишь покачал головой:
- Ну и фантазии у тебя, Елена...
Сны эти, однако, изредка повторялись. Они были совершенно бессмысленны, не сообщали ничего такого, что поддавалось бы пересказу, но после них оставалось неопределенно-приятное ощущение нового.
И теперь, когда прошло столько лет и не было на свете Антона Ивановича, и даже фотографии его Елена упрятала подальше - как бы ее подрастающая девочка не узнала случайно, что Павел Алексеевич ей не родной отец, а отчим, - всякий раз, усаживаясь на свое рабочее место, она раскрывала старинную немецкую готовальню, флотовскую готовальню, и вздыхала о покойном Антоне Ивановиче. Свою вину перед ним она никогда не забывала. Да и чертежные сны время от времени снились - зачем, для чего...
Павел Алексеевич Елениной работы не любил - к чему это утомительное сидение в конструкторском бюро? Недоумевал. Елена оправдывалась:
- Это хорошая работа. Я в ней понимаю.
- Да чего же в ней хорошего? - искренне удивлялся Павел Алексеевич.
- Не могу тебе объяснить. Это красиво.
- Пожалуй, - лукаво соглашался Павел Алексеевич. - Да только очень уж простенько, - поддразнивал.
- Ах, Паша, что ты говоришь! - обижалась Елена. - Ничего не простенько. Иногда очень даже сложно бывает.
Павел Алексеевич ловил эту минуту, когда менялось ее обыкновенно кроткое выражение. Она слегка встряхивала головой, пушистые завитки с боков лба, всегда выбивающиеся из пучка, подрагивали, губы морщились в уголках.
- Я имею в виду, что там все механическое, никакой тайны нет. - Он выставлял перед ней указательный палец: - В одном человеческом пальце больше тайны, чем во всех ваших чертежах.