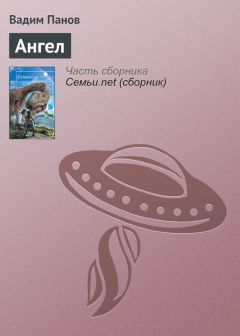Иван Лажечников - Беленькие, черненькие и серенькие
— Не много ли, батюшка?
— Что взято, то свято, — сказал старик, ухмыляясь, — слушай: как приедешь домой, пошли от мужа Ларьку к хозяевам пустыря, что на Московской большой улице, против Иоанна Богослова…[101] дескать, твой муж накидывает за места с старою рухлядью сто рублёв против того, что я давал. Люди в нужде, обижать не надо. Максим приедет, купчую совершите[102]. Простору много — целый квартал; стройте, что вздумается, да чтоб было всё каменное, вековое. Знай, что дома Пшеницыных!.. А как заложите хоромы, так я новорождённому пришлю на зубок ещё стопочки три седеньких старичков… чтобы рос скорее.
Невестка хотела поцеловать руку у свёкра, но тот не дал руки, а поцеловал её в малиновые губки, как сам их называл.
— Да куда Ванюшка запропастился? Позовите его ко мне.
Позвали Ваню, которого также очень любил старик. Он указал ему на выдвинутый ящик комода.
— Помнишь, поросёнок, — сказал он, — считал ты со мною всё шиши да шиши? (Ваня в первые годы своего детства называл так тысячи, которые перебирал с дедом на счётах.) Возьми что полюбится; ведь ты также ухаживал за стариком.
Ваня заглянул в ящик и с неудовольствием сказал:
— Вишь какой деда, бумажками потчует; мне давай золотых арабчиков[103].
— Нечего делать с дурачком; развяжи, Параша, первый мешочек-то налево, с краю… всё супротивни{2}. Пускай хватает горсткой и сыплет себе в карманы, что наберётся. Слышь, на эти деньги ему особую горенку, да чтоб штофом вся была обита — не покупать стать, с своей фабрики.
Прасковья Михайловна развязала мешочек, указанный свёкром; из него полился блестящий поток империалов. Ваня захватил горстью, что могло в ней набраться, и сказал:
— Довольно.
— Не жаден будет, — заметил старик.
Мать сочла деньги, прибавив:
— Чтоб не растерял!
Это действие видимо понравилось старику. Он сказал ей спасибо да кстати приказал ей заштопать дырочки, оказавшиеся в мешочках.
Долго не могла заснуть молодая женщина, строя в мечтах своих палаты на пустыре. В Холодне было много каменных двухэтажных домов, но она хотела поставить дом на удивление всем. И во сне снились ей волшебные замки из литого золота, с такими причудливыми затеями, какие только рассказываются в сказках или из воска выливаются на святочных вечерах[104]; снился ей также какой-то сказочный царевич у ног её.
Прасковья Михайловна прожила с лишком три недели у свёкра, в том числе и масленицу, и стала скучать. Она горела нетерпением отвезть домой начатки своего богатства; казалось ей, в доме свёкра они ещё не принадлежали ей. Между тем Илья Максимович старался сделать как можно приятнее её пребывание у него: давал ей своих рысаков для катания к ледяным горам и к бегу[105], которые тогда на Москве-реке кипели народом; заставлял молодого слугу и мальчика играть камедь — чьего сочинения, неизвестно[106]. Старшее лицо представляло мельника-колдуна, обсыпанного мукой, в седом парике и с бородой из конских волос; младшее исполняло роль дурачка-угольщика. В этом игрище было много народного юмора, пересыпанного, однако ж, такими непристойными остротами, что Прасковья Михайловна просила скорее прекратить эту мужицкую забаву, как она назвала её. Это очень удивило всю дворню, и немудрено. В то время, и даже до десятых годов XIX столетия, в Москве без «мельника и угольщика» не обходилась почти ни одна богатая купеческая свадьба или пирушка. Наштукатуренные и чернозубые купчихи[107], подгулявши (заметьте, они считали за величайший стыд и порок пить вино при мужчинах, но удалялись в особенную потаённую горенку вкушать его под именем мёда), заливали остроты скоморохов простодушным хохотом, а иногда, за перегородкой, награждали ловкого колдуна и тайным поцелуем. За комедией выступал обыкновенно доморощенный трубадур с бандурой, с песнями и пляской[108]. Дивные штуки выделывал он ногами, да и каждая косточка в нём говорила. А как подскочит под самый нос пригожей купчихи, поведёт плечом, на которое вскинет клетчатый платок, и обдаст её, как кипятком, молодецким спросом: «Аль не любишь?» — так восторгу не было конца. Но венцом его искусства был какой-то сальто-мортале: на всём скаку раздвинет ноги вперёд и назад и упадёт на них так страшно, что, казалось, должен был бы разодраться пополам, а он понемногу, как стрела, станет опять на ноги[109]. За то, когда артисты, окончив представление, обходили зрителей с тарелкой в руках, со всех сторон сыпались на неё щедрые дары мелкою и крупною серебряною монетой, между которою попадалась иногда и золотая.
Любил Илья Максимович тешить себя и честолюбивую невестку рассказами о связях своих с тогдашними знатными господами, о том, как они живут, да как убраны у них палаты, как он обращался с ними уважительно, да и себя не ронял, а тех, которые вышли из подьячих да зазнались, дразнил игрою своего миллиончика или намёком на нечистое дельце. Гордился он очень знакомством своим с графом Алексеем Григорьевичем Орловым[110].
— Вот русский боярин! Алмаз-боярин! — говаривал он. — Посыпьте перед ним дорожку золотом, да по грязи — не захочет замарать рук своих, чтобы подбирать их. Не то что какой-нибудь шематон[111], изроет целую навозную кучу, чтоб достать червончик, да ещё подумает, нельзя ли из навозу сделать золота. И осанкою, и мощью, и духом — всем взял! Стоит на кулачном бою промеж чёрного народа, а тотчас видно, что боярин! Кажись, ласков и с малым ребёнком, а глазами поведёт, так поневоле хватаешься за шапку.
— А знаешь ли, Прасковья Михайловна! — прибавил Илья Максимович. — В прошедшем лете не погнушался в гости к моему Гаврюшке. (Тут указал он на Ларивонова старшего брата, остриженного в кружок, в чуйке[112] из зелёного порыжелого бархата с цветочными дорожками, в галстуке, затянутом наподобие ошейника.) Проведал как-то граф, что у него диковинный голубь — турман[113] что ли, пёс их знает, — да и приехал с приятелями посмотреть. «Я, — говорит, — не к Илье Максимовичу, а к Гавриле его». Уж и потешил Гаврюшка мой важного гостя! Понёсся голубь воронкой всё выше и выше, забил крылышками, словно двумя серебряными листиками, потом стал в небе пятнышком не более гроша[114] да и пропал… Навели трубу, и в неё не видать! Думал я, уж не ястреб ли скушал. А голубь вдруг замелькал в высоте поднебесной и стал, словно клубочек, разматываться, разматываться — да как падёт сверху кувырком, примером сажен пятьдесят, и бряк оземь, прямо к ногам его сиятельства. Все диву дались и захлопали в ладоши. Граф вынул из кошелька штук пять золотых, отдал их этому дураку да погладил его по голове. Да вот и возгордился Гаврюшка, — прибавил Илья Максимович, — надел ныне бархатную чуйку. Подарил ведь с плеч своих. Кажись, будни.
— Для Прасковьи Михайловны, батюшка Илья Максимович, — сказал человек, остриженный в кружок.
— Чай, своя! Смотри, брат, не заламывайся; знаешь, не люблю мотовства. У меня, Параша, вот какой обычай. Припадёт кому из них охота до чего — возьми у меня, сколько угодно, на развод; да только чтоб впрок шло, и назад долг отдай. Гаврюшка к голубям пристрастился: на, купи, брат, голубей, да чтоб не были дрянь, отборных. Вот и купил, и богат стал от голубей, и долг отдал. Так и мельнику-бандуристу дал на струмент и дурацкую одёжу[115]: впрок пошло — молчу и по головке поглаживаю. А зашалит да замотает, так у меня разом полетит на завод нюхать серу. А кстати, Гаврюшка, из какой заморской стороны добывают много серы?
— Цыцыла, — отвечал Гаврила.
— Ха-ха-ха, Цецилия[116], говорил я тебе; Цецилия, дурак! Ведь я сам, Параша, учился, неравно спросит по серному заводу матушка императрица.
И Прасковья Михайловна, чтобы угодить на случай старику, твердила про себя имя заморской страны Цецилии, откуда добывают много серы.
На конце первой недели Великого поста Илья Максимович, чувствуя себя гораздо лучше, так что мог бродить по комнатам, и заметив по лицу Прасковьи Михайловны, что в гостях хорошо, а дома лучше, благословил её на возвратный путь. Собрались уж после обеда. «Смотри, душа моя, ночуй в Люберцах, — говорил он, провожая невестку, — а то в Волчьих Воротах шалят»[117].
Кто езжал по холоденской дороге, тот не мог не заметить на возвышенной равнине, за двадцать вёрст с небольшим от Москвы, несколько вправо от дороги, одинокую сосну, вероятно, пережившую целый век. Так как окрестные жители искони хранят к этому дереву особенное благоговение и не запахивают корней его, то оно свободно раздвинуло кругом на несколько сажень свои жилистые сучья, из которых образовалась мохнатая шапка. В тени её могут укрыться несколько десятков человек. Видно, она стала тяжела старому богатырю, и он к верху несколько согнул под нею свой стан. Это дерево подало Мерзлякову мысль написать известную песнь[118]: