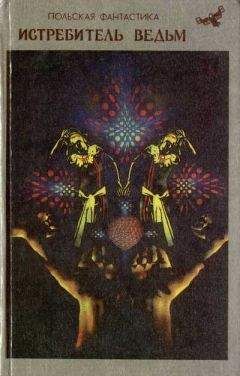Николай Чернышевский - Том 2. Пролог. Мастерица варить кашу
– Неужели она подала вам повод жалеть, что вы искренне любили ее? – Она, такая добрая и деликатная?
– Нет. Я хотела сказать не то. Я хотела сказать, что Виктор Львович гораздо меньше любит ее, нежели следовало бы. Он дурной отец.
– Вы несправедлива к нему, Марья Дмитриевна.
– Я справедлива к нему. Я надеюсь, что она не будет несчастна. Я надеюсь, что все будет к лучшему для нее. Но – но он слишком мало думал о дочери. Хорошо, что я могу… хорошо, что я могу – но нет. Довольно. Я не могу говорить больше.
Мери замолчала и стала плести венок. До сих пор мне казалось, что она довольно спокойна. Тут я увидел, что ей стоило большого усилия сохранять спокойный вид: ее руки дрожали.
– Вы слишком любите Надежду Викторовну. – она заслуживает того. Но это делает вас несправедливою к ее отцу. Можно ли сказать, что он мало думает о дочери, Когда чувство отцовской обязанности дало ему силу разорвать связь с Дедюхиною?
Мери промолчала и усиливалась плести венок. Но руки ее дрожали.
– О, как мне тяжело, Владимир Алексеич! Прошу вас, уйдите, или я не знаю, что будет со мною. – мне кажется, со мною будет истерика.
Лицо ее становилось бледно, грудь волновалась; – я не знал, что мне делать: уйти, как она велит, и послать к ней кого-нибудь. – Надежду Викторовну или Власову. – но до дома далеко, это пройдет минут десять. Я боялся оставить ее одну. Я не знал хорошенько, что такое истерика, но я знал, что это какие-то ужасные пароксизмы. – какие-то конвульсии с хохотом и рыданьем. Как оставить ее одну на столько времени? – До дома полверсты.
– Я боюсь оставить вас одну, Марья Дмитриевна.
– Не бойтесь, это ничего. – Уйдите. – А уже слышалось, что ей очень трудно говорить ровным голосом.
– Боюсь уйти, Марья Дмитриевна.
– Так я уйду, пока могу. – Она встала и пошла твердым шагом.
– Это хорошо, пойдем вместе, там, в доме, сумели бы ухаживать за вами, если бы что случилось.
Она казалась спокойною, только бледна, и грудь ее волновалась. Так прошли мы шагов двадцать. – она шла твердою поступью, я начинал успокаиваться. – вдруг она зарыдала с хохотом и упала. Я подхватил ее на руку.
– Назад, в беседку! Пусть не слышит! – Она опять шла, шатаясь: – Назад! В беседку! – Она хохотала: – Никто не должен слышать! Нет сил молчать. – вы мои друг! – Скрывать от вас! – Нет силы скрывать дольше! – Слишком тяжело! Я все скажу! О, как вы любите меня! Вы не понимаете потому, что любите меня! – Неужели вы перестанете уважать меня? Скажите, что вы не будете презирать меня! Нет силы, стыдно! О, зачем вы так уважали меня? – Я не стыдилась бы! – Скажите же, вы не презираете меня? Я скажу вам все! Не могу. – душит! – Нет силы молчать, нет силы сказать! – Идите к нему, скажите ему, он расскажет все! Он не знает, он не должен знать! Но вам я скажу! – Она рыдала и хохотала, опустившись на мои руки в бессилии. – Не могу! Идите к нему, он скажет! Не верьте ему, он не знает! – Не верьте ему, что он обольстил меня! – Я соблазнила его! – с конвульсивною силою она рванулась и побежала. – сделав десять шагов, упала.
Я взял ее на руки. – она отталкивала их, но слабая, как маленький ребенок. – я понес ее в беседку, она лежала на моих руках, будто в летаргии. Я положил ее на диван, несколько времени она оставалась без движения и почти не дышала. – «Не бойтесь. – проговорила она – слабо, чуть слышно. – Все прошло; все сказано, и все прошло. Уйдите, без вас мне будет легче; мне стыдно вас. – мне стыдно».
Не знаю. – жалость ли только, или остаток прежней веры в благородство ее сердца. – или просто то, что я сам не знал, что делаю и говорю. – я целовал ее руку и говорил: «Марья Дмитриевна, я верю в вас, Марья Дмитриевна, вы не можете быть дурною. – Марья Дмитриевна, я знаю вас, у вас благородное сердце».
– Нет, нет. – уйдите. – отвечала она слабым голосом. – При вас я презираю себя. – уйдите, или мне будет опять дурно.
Я вышел и сел подле беседки, ждать, пока она оправится.
Через полчаса она вышла; все еще несколько бледная, но не такая бледная, чтоб это могло показаться поразительным кому-нибудь незнающему. – возбудить подозрения, разговоры: устала или болит голова, только. Я пропустил ее, молча, потупивши взгляд. И она прошла, не имея силы взглянуть.
Так дорожить уважением честного друга, так мучиться чувством стыда перед ним. – и этот благородный стон, которым она принимала на одну себя всю вину: «Он не обольщал меня, я соблазнила его». - как прекрасна могла б она быть, если бы не захотела быть дурною!
Я рассудил, что Надежда Викторовна, конечно, гораздо больше меня способна верить хорошему, не предполагать дурного. Она ли не поверит тому, в чем был убежден я, когда шел на этот разговор? И она ли усомнится в чистоте моей дружбы к Мери, когда я был способен иметь такое чистое чувство? – Думать не хотелось, голова была без мыслей, будто я толкнулся лбом о стену. – я рад был, что у меня есть готовый ответ для Надежды Викторовны. Он был хорош и тем, что прекрасно объяснял мои будущие отношения к Мери.
Надежда Викторовна вышла ко мне в библиотеку. – «О чем же плакала Мери?» – Вы видели, Надежда Викторовна, как дружны были мы с нею. Мы забывали, что это может подать повод к сплетням. Я услышал их. Я должен держать себя далеко от Мери. Она плакала об этом.
Милая, добрая девушка. – ее можно называть невинною девушкою, не смеясь. Как она была огорчена за Мери!
– Я ставлю себя на ее место и понимаю, что ей нельзя не плакать. Вы – все общество, которое имела, которое может иметь она здесь. Я люблю ее, это правда; но отношения между нами не могут не быть стеснительны для нее; тем более, что она горда. С Власовыми она держит себя свободнее. – но хоть они очень хорошие люди все-таки они помнят, что Мери – горничная. Ах, это положение горничной вовсе не годится для такой гордой, развитой девушки! Как ни привязана я к Мери, я желала бы лучше вовсе не видеть ее, чем видеть ее своею горничною! Надобно найти ей другое положение. – не правда ли? И madame Lenoir говорила, чтобы я позаботилась об этом. Madame Lenoir говорила, что она может быть гувернанткою; может, не правда ли? Тогда она могла бы опять быть дружна с вами, и никто не говорил бы об этом дурно. Вы будете жить у нас, она могла бы ездить к нам каждый день. – тогда она могла бы ездить в гости ко мне. – не так ли? – И кто мог бы говорить дурно? Вы думаете так, не правда ли? – Потому что и вы тоже очень любите ее, как она вас, – не правда ли?
Я сказал, что очень люблю Мери и поэтому давно написал своим знакомым в Петербурге, чтоб они постарались найти для нее место гувернантки. Я еще не говорил ей об этом, чтобы не заводить спора прежде времени: она так любит Надежду Викторовну! – Мы оба стали радоваться, что одинаково думаем, о Мери и о том, что надобно сделать для Мери.
Я ушел в свою комнату и поплакал о бедной Мери: зачем она захотела быть такою дурною?
Но я не хочу отказаться от мысли, с которою я целовал руку моей бедной Мери. – говорил ей, что не могу считать ее дурною. Нет, Мери согласится уехать отсюда! Она согласится, я знаю: тогда я не буду ненавидеть ее; осуждать буду. – плакать о ней буду; но буду плакать без негодования, только с сожалением, и осуждать ее буду снисходительно. Пусть она уедет в Петербург. Мы можем приехать через несколько дней, пусть она будет любовницею Виктора Львовича, если ей так надобно: в Петербурге это может оставаться неизвестно, не будет вредить отношениям Надежды Викторовны к отцу. Тогда мне будет только жаль мою милую Мери, что она не захотела быть такою прекрасною, какою могла быть. Никому, кроме нее самой, не будет несчастия от того, что она захотела быть дурною… Бедная Мери! Такое унижение, такое великое, добровольное уни…
Я писал это. – вошел Иван Антоныч. – «В другой раз ныне я отрываю вас от работы, Владимир Алексеич». – «Ничего, Иван Антоныч; моя работа не спешная. Что скажете? Опять прислала Надежда Викторовна?» – «Нет, Владимир Алексеич, я пришел поговорить с вами» – Я угадал его: – «Что такое, Иван Антоныч?» – «Да вот, о Машеньке, Владимир Алексеич». Поутру – еще задолго до обеда – Машенька пришла из саду, он видит, она будто бледная; здорова ли? – Она сказала, здорова, только болит голова, она ляжет, пройдет. – он говорил ей, не послать ли за лекарем, она говорила – не надобно, пройдет. Теперь встала, но сидит, молчит. – он боится, не сделается ли к ночи опять худо? С больными так бывает: пока день, становится легче, а ночью и разболеются. Как я думаю? Или он попросил бы меня пойти взглянуть на нее. Как я думаю? – «Она не больна, Иван Антоныч, а только огорчена». – «Чем же?» – Я повторил ему то же самое, что говорил Надежде Викторовне. Он всплеснул руками: – «Ах ты боже мой! Какие люди есть на свете! Да у кого же нет глаз видеть, похожа ли на что-нибудь дурное ваша с нею дружба? И неужели кто-нибудь из нашего дома выдумал такую глупость и такую подлость?» – «Нет, не из нашего дома, а Зинаида Никаноровна Дедюхина». – «Ну вот, это так. – от нее можно ждать всего!» – «На это вы вздумали хорошо, Иван Антоныч: если бы мне поговорить еще раз с Марьею Дмитриевною, может быть, это было бы полезно». Старик пошел сказать ей.