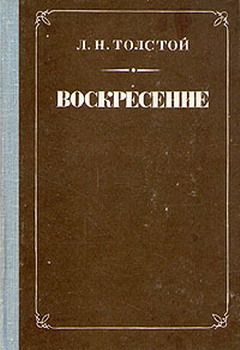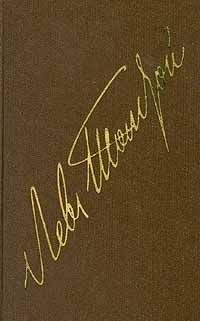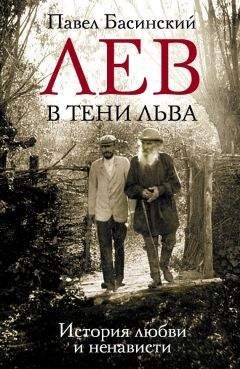Лев Толстой - Воскресение
– Да прошу покорно садиться, – сказал офицер.
Нехлюдов сел.
– Она не политическая, – повторил он, – но по моей просьбе ей разрешено высшим начальством следовать с политическими.
– А, знаю, – перебил офицер. – Маленькая, черненькая? Что ж, это можно. Курить прикажете?
Он подвинул Нехлюдову коробку с папиросами и, аккуратно налив два стакана чаю, подвинул один из них Нехлюдову.
– Прошу, – сказал он.
– Благодарю вас, я бы желал видеться…
– Ночь велика. Успеете. Я вам велю ее вызвать.
– А нельзя ли, не вызывая ее, допустить меня в помещение? – сказал Нехлюдов.
– К политическим? Не по закону.
– Меня несколько раз пускали. Ведь если бояться, что я передам что-либо, то я через нее мог бы передать.
– Ну, нет, ее обыщут, – сказал офицер и засмеялся неприятным смехом.
– Ну, так меня обыщите.
– Ну, и без этого обойдемся, – сказал офицер, поднося откупоренный графинчик к стакану Нехлюдова. – Позволите? Ну, как угодно. Живешь в этой Сибири, так человеку образованному рад-радешенек. Ведь наша служба, сами знаете, самая печальная. А когда человек к другому привык, так и тяжело. Ведь про нашего брата такое понятие, что конвойный офицер – значит грубый человек, необразованный, а того не думают, что человек может быть совсем для другого рожден.
Красное лицо этого офицера, его духи, перстень и в особенности неприятный смех были очень противны Нехлюдову, но он и нынче, как и во все время своего путешествия, находился в том серьезном и внимательном расположении духа, в котором он не позволял себе легкомысленно и презрительно обращаться с каким бы то ни было человеком и считал необходимым с каждым человеком говорить «вовсю», как он сам с собой определял это отношение. Выслушав офицера и поняв его душевное состояние в том смысле, что он тяготится участием в мучительстве подвластных ему людей, он серьезно сказал:
– Я думаю, что в вашей же должности можно найти утешение в том, чтобы облегчать страдания людей, – сказал он.
– Какие их страдания? Ведь это народ такой.
– Какой же особенный народ? – сказал Нехлюдов. – Такой же, как все. А есть и невинные.
– Разумеется, есть всякие. Разумеется, жалеешь. Другие ничего не спускают, а я, где могу, стараюсь облегчить. Пускай лучше я пострадаю, да не они. Другие, как чуть что, сейчас по закону, а то – стрелять, а я жалею. Прикажете? Выкушайте, – сказал он, наливая еще чаю. – Она кто, собственно, – женщина, какую видеть желаете? – спросил он.
– Это несчастная женщина, которая попала в дом терпимости, и там ее неправильно обвинили в отравлении, а она очень хорошая женщина, – сказал Нехлюдов.
Офицер покачал головой.
– Да, бывает. В Казани, я вам доложу, была одна, – Эммой звали. Родом венгерка, а глаза настоящие персидские, – продолжал он, не в силах сдержать улыбку при этом воспоминании. – Шику было столько, что хоть графине…
Нехлюдов перебил офицера и вернулся к прежнему разговору.
– Я думаю, что вы можете облегчить положение таких людей, пока они в вашей власти. И, поступая так, я уверен, что вы нашли бы большую радость, – говорил Нехлюдов, стараясь произносить как можно внятнее, так, как говорят с иностранцами или детьми.
Офицер смотрел на Нехлюдова блестящими глазами и, очевидно, ждал с нетерпением, когда он кончит, чтобы продолжать рассказ про венгерку с персидскими глазами, которая, очевидно, живо представлялась его воображению и поглощала все его внимание.
– Да, это так, положим, верно, – сказал он. – Я и жалею их. Только я хотел вам про эту Эмму рассказать. Так она что делала…
– Я не интересуюсь этим, – сказал Нехлюдов, – и прямо скажу вам, что хотя я и сам был прежде другой, но теперь ненавижу такое отношение к женщинам.
Офицер испуганно посмотрел на Нехлюдова.
– А еще чайку не угодно? – сказал он.
– Нет, благодарю.
– Бернов! – крикнул офицер, – проводи их к Вакулову, скажи пропустить в отдельную камеру к политическим; могут там побыть до поверки.
IX
Провожаемый вестовым, Нехлюдов вышел опять на темный двор, тускло освещаемый красно горевшими фонарями.
– Куда? – спросил встретившийся конвойный у того, который провожал Нехлюдова.
– В отдельную, пятый номер.
– Здесь не пройдешь, заперто, надо через то крыльцо.
– А что ж заперто?
– Старшой запер, а сам на село ушел.
– Ну, так айдате здесь.
Солдат повел Нехлюдова на другое крыльцо и подошел по доскам к другому входу. Еще со двора было слышно гуденье голосов и внутреннее движение, как в хорошем готовящемся к ройке улье, но, когда Нехлюдов подошел ближе и отворилась дверь, гуденье это усилилось и перешло в звук перекрикивающихся, ругающихся, смеющихся голосов. Послышался переливчатый звук цепей, и пахнуло знакомым тяжелым запахом испражнений и дегтя.
Оба эти впечатления – гул голосов с звоном цепей и этот ужасный запах – всегда сливались для Нехлюдова в одно мучительное чувство какой-то нравственной тошноты, переходящей в тошноту физическую. И оба впечатления смешивались и усиливали одно другое.
Войдя теперь в сени полуэтапа, где стояла огромная вонючая кадка, так называемая «параха», первое, что увидал Нехлюдов, была женщина, сидевшая на краю кадки. Напротив нее – мужчина со сдвинутой набок на бритой голове блинообразной шапкой. Они о чем-то разговаривали. Арестант, увидав Нехлюдова, подмигнул глазом и проговорил:
– И царь воды не удо€ржит.
Женщина же опустила полы халата и потупилась.
Из сеней шел коридор, в который отворялись двери камер. Первая была камера семейных, потом большая камера холостых и в конце коридора две маленькие камеры, отведенные для политических. Помещение этапа, предназначенное для ста пятидесяти человек, вмещая четыреста пятьдесят, было так тесно, что арестанты, не помещаясь в камерах, наполняли коридор. Одни сидели и лежали на полу, другие двигались взад и вперед с пустыми и полными кипятком чайниками. В числе этих был Тарас. Он догнал Нехлюдова и ласково поздоровался с ним. Доброе лицо Тараса было изуродовано сине-багровыми подтеками на носу и под глазом.
– Что это с тобой? – спросил Нехлюдов.
– Вышло дело такое, – сказал Тарас, улыбаясь.
– Да дерутся все, – презрительно сказал конвойный.
– Из-за бабы, – прибавил арестант, шедший за ними, – с Федькой слепым сцепились.
– А Федосья что? – спросил Нехлюдов.
– Ничего, здорова, вот ей на чай кипяточку несу, – сказал Тарас и вошел в семейную.
Нехлюдов заглянул в дверь. Вся камера была полна женщинами и мужчинами и на нарах и под нарами. В камере стоял пар от сохнувшей мокрой одежды и слышался неумолкаемый крик женских голосов. Следующая дверь была дверь камеры холостых. Эта была еще полнее, и даже в самой двери и выступая в коридор стояла шумная толпа что-то деливших или решавших арестантов в мокрых одеждах. Конвойный объяснил Нехлюдову, что это староста выдавал забранные или проигранные вперед по билетикам, сделанным из игральных карт, кормовые деньги майданщику. Увидав унтер-офицера и господина, стоявшие ближе замолкли, недоброжелательно оглядывая проходивших. В числе деливших Нехлюдов заметил знакомого каторжного Федорова, всегда державшего при себе жалкого, с поднятыми бровями, белого, будто распухшего молодого малого и еще отвратительного, рябого, безносого бродягу, известного тем, что он во время побега в тайге будто бы убил товарища и питался его мясом. Бродяга стоял в коридоре, накинув на одно плечо мокрый халат, и насмешливо и дерзко глядел на Нехлюдова, не сторонясь перед ним. Нехлюдов обошел его.
Как ни знакомо было Нехлюдову это зрелище, как ни часто видел он в продолжение этих трех месяцев все тех же четыреста человек уголовных арестантов в самых различных положениях: и в жаре, в облаке пыли, которое они поднимали волочащими цепи ногами, и на привалах по дороге, и на этапах в теплое время на дворе, где происходили ужасающие сцены открытого разврата, он все-таки всякий раз, когда входил в середину их и чувствовал, как теперь, что внимание их обращено на него, испытывал мучительное чувство стыда и сознания своей виноватости перед ними. Самое тяжелое для него было то, что к этому чувству стыда и виноватости примешивалось еще непреодолимое чувство отвращения и ужаса. Он знал, что в том положении, в которое они были поставлены, нельзя было не быть такими, как они, и все-таки не мог подавить своего отвращения к ним.
– Им хорошо, дармоедам, – услыхал Нехлюдов, когда он уже подходил к двери политических, – что им, чертям, делается; небось брюхо не заболит, – сказал чей-то хриплый голос, прибавив еще неприличное ругательство.
Послышался недружелюбный, насмешливый хохот.
X
Миновав камеру холостых, унтер-офицер, провожавший Нехлюдова, сказал ему, что придет за ним перед поверкой, и вернулся назад. Едва унтер-офицер отошел, как к Нехлюдову быстрыми босыми шагами, придерживая кандалы, совсем близко подошел, обдавая его тяжелым и кислым запахом пота, арестант и таинственным шепотом проговорил: