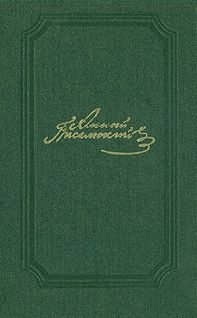Алексей Писемский - В водовороте
– Ребенок, по преимуществу, и заставил меня это сделать, чтобы спасти его от влияния отца.
– От влияния отца спасти!.. – повторил с усмешкою Миклаков. – Как хотите, Елена, а у вас, видно, характер все хуже и хуже становится.
– У вас пуще хорош характер!.. – возразила она ему с своей стороны. – Сами вы зачем разошлись с княгиней?
– Ну, мы с ней разошлись на основании весьма уважительной причины.
– А именно?
– А именно потому, что никогда и не сходились с ней.
Елена сомнительно покачала головой.
– Конечно, это очень благородно с вашей стороны, – сказала она: – говорить таким образом о женщине, с которой все кончено; но кто вам поверит?.. Я сама читала письмо Петицкой к князю, где она описывала, как княгиня любит вас, и как вы ее мучите и терзаете, – а разве станет женщина мучиться и терзаться от совершенно постороннего ей человека?
– Я не то, чтоб был посторонний ей человек: она говорила, что любит меня, но что все-таки желает остаться верна своему долгу.
– Какому это долгу?
– Да такому, как и Татьяна пушкинская, что вот-де: другому отдана и буду ввек ему верна!
– Меня, знаете, эта Татьяна всегда в бешенство приводит! – воскликнула Елена. – Если действительно Пушкин встретил в жизни такую женщину, то я голову мою готова прозакладывать, что ее удерживали от падения ее генеральство и ее положение в свете: ах, боже мой, как бы не потерять всех этих сокровищ!
– Может быть! – согласился Миклаков. – Но мою госпожу другое останавливало… – присовокупил он с усмешкой.
– Другое? – спросила Елена.
– Да!.. Она боялась в этом случае бога, греха и наказания за него в будущей жизни.
Лицо Елены сделалось удивленное и насмешливое.
– После этого она просто-напросто дура! – проговорила она.
– Не очень умна! – согласился Миклаков.
– Но я одного тут не понимаю: каким образом вы могли влюбиться в подобную женщину и влюбиться до такой степени, что целые полтора года ездили за ней по Европе.
– Эта самая непорочность больше всего и влекла меня к ней… Очень мне последнее время надоели разные Марии Магдалины[168]!.. Но кто, однако, вам сказал, что мы с княгиней больше не встречаемся? – спросил в заключение Миклаков.
– Жуквич! Ему кто-то писал об этом из Парижа! – отвечала Елена.
– А! – произнес Миклаков. – Поэтому он еще здесь?
– Здесь! Он тут через два нумера от меня живет! – отвечала Елена не совсем спокойным голосом.
– Вот где!.. – произнес не без ударения Миклаков. – Так вы, значит, к нему под крылышко переехали?
– Не к нему, но потому, что я только эту гостиницу и знала в Москве; а переехать мне надо было поскорее, – проговорила Елена, еще более смутясь. – Скажите, однако, не знаете ли вы, что он за человек?.. Собственно, я до сих пор еще не могу хорошенько понять его.
Миклаков подумал некоторое время.
– Человек, как вы видите, неглупый… плутоватый, кажется… – проговорил он.
– Но я подозреваю, что он предводитель какой-нибудь большой польской партии! – подхватила Елена.
– Нет, не думаю! – возразил Миклаков.
– Непременно так! – продолжала Елена. – Потому что он тут хлопочет, делает сборы на помощь польским эмигрантам.
– Ну, немного еще, видно, собрал… – заметил с усмешкой Миклаков.
– Это из чего вы заключаете? – спросила Елена.
– Из того, что некоторые из эмигрантов в поденщики идут на самые черные работы.
Елена при этом даже изменилась в лице.
– Я знаю, по крайней мере, что несколько времени тому назад он послал им в Париж значительную сумму! – проговорила она.
– Не слыхал-с этого!.. Знаю только, что господа польские эмигранты составляют до сих пор один из главных элементов парижского пролетариата.
– Странно, – произнесла Елена, видимо, желавшая скрыть обеспокоившую ее мысль.
Миклаков между тем встал с тем, чтобы уйти.
Елена тоже встала.
– Когда же мы опять увидимся? – спросила она.
– Нескоро, я думаю, потому что я завтра уезжаю в Малороссию.
– В Малороссию?.. Это зачем?
– По двум причинам… Во-первых, я за границей климатом избаловался, – мне климата хорошего желается, а здесь холодно; кроме того, на днях княгиня возвращается в Москву к своему супругу.
– Возвращается? – повторила Елена, как бы уколотая чем-то.
– Возвращается-с; и так как я вовсе не желаю, чтобы про меня говорили, что я всюду следую по пятам княгини, то и уезжаю отсюда.
– Просто, я думаю, боитесь за себя, что не утерпите и прибежите поглядеть на свое холодное божество, а потом, чего доброго, опять, пожалуй, начнете поклоняться ему! – заметила Елена.
– Нет-с, нет!.. Другой раз таким дураком больше не буду! – воскликнул Миклаков, отрицательно кивая головой и уходя.
Елена между тем, после его посещения, сделалась еще более расстроенною: у ней теперь, со слов Миклакова о продолжающейся бедности польских эмигрантов, явилось против Жуквича еще новое подозрение, о котором ей страшно даже было подумать.
X
В одно утро Елпидифор Мартыныч садился на свою пролетку, чтоб ехать по больным, как вдруг перед ним, точно из-под земли, выросла Марфуша, запыхавшаяся, расстроенная и испуганная.
– Батюшка, Елпидифор Мартыныч, с барыней нашей что-то очень нехорошо-с! – завопила она.
– Что такое?.. – спросил Елпидифор Мартыныч.
– Без чувств все изволит лежать-с! – отвечала Марфуша.
– О, о!.. Отчего же это с ней случилось? – произнес Елпидифор Мартыныч.
– Да вчера к ней-с эта проклятая горничная Елены Николаевны пришла, – продолжала Марфуша. – Она больше у нашей барышни не живет-с! – И начала ей рассказывать, что Елена Николаевна из заведенья переехала в гостиницу, в нумера, к этому барину Жуквичу.
– Переехала?.. Фю!.. – поздравляю! – воскликнул, присвистнув, Елпидифор Мартыныч.
– Переехала-с… Елизавета Петровна очень этим расстроилась: стала плакать, метаться, волоски даже на себе рвала, кушать ничего не кушала, ночь тоже не изволила почивать, а поутру только было встала, чтоб умываться, как опять хлобыснулась на постелю. «Марфуша! – кричит: – доктора мне!». Я постояла около них маненько: смотрю точно харабрец у них в горлышке начинает ходить; окликнула их раза два – три, – не отвечают больше, я и побежала к вам.
Елпидифор Мартыныч выслушал Марфушу с внимательным и нахмуренным лицом и потом, посадив ее вместе с собой на пролетку, поехал к Елизавете Петровне, которую нашел лежащею боком на постели; лицо ее было уткнуто в подушку, одна из ног вывернута в сторону и совершенно обнажена.
– Закрой! – сказал Елпидифор Мартыныч, указывая прежде всего Марфуше на эту ногу.
Та закрыла.
Елпидифор Мартыныч после этого заглянул Елизавете Петровне в лицо, потряс ее потом довольно сильно за плечо, затем взял ее руку и стал щупать пульс.
– Баста!.. Кончено! – проговорил он.
– Что, батюшка, умерла, что ли, она? – спросила трепещущая Марфуша.
– Умерла!.. Поди объяви об этом в полиции! – продолжал Елпидифор Мартыныч, как-то беспокойно озираясь кругом.
Марфуша заревела во весь голос и пошла.
Оставшись один, Елпидифор Мартыныч, по-прежнему озираясь по сторонам, проворно подошел к комоду, схватил дрожащими руками лежавшие на нем ключи, отпер одним из них верхний ящик комода, из которого, он видал, Елизавета Петровна доставала деньги. Выдвинув этот ящик, он отыскал в нем туго набитый бумажник и раскрыл его: в бумажнике оказалось денег тысячи полторы. Тысячу рублей Елпидифор Мартыныч сунул себе в карман, а пятьсот рублей оставил в бумажнике, который снова положил на прежнее место, задвинул ящик и запер его. Тысячу эту Елпидифор Мартыныч решительно считал законно принадлежащею ему – за все те хлопоты, которые он употребил с своей стороны по разного рода делам Елизаветы Петровны.
Когда полиция пришла, Елпидифор Мартыныч сдал ей деньги и вещи и самое покойницу в полное распоряжение, а сам уехал, говоря, что ему тут больше нечего делать. Полиция, с своей стороны, распорядилась точно так же, как и Елпидифор Мартыныч: из денег она показала налицо только полтораста рублей, которые нужны были, по ее расчету, на похороны; остальные, равно как и другие ценные вещи, например, брошки, серьги и даже серебряные ложки, попрятала себе в карманы и тогда уже послала известить мирового судью, который пришел после того на другой только день и самым тщательным образом описал и запечатал разное старое платье и тряпье Елизаветы Петровны. Елену полиция известила о смерти матери через неделю после похорон. Все это время она аки бы разыскивала ее по Москве. Известие это несколько встревожило и взволновало Елену. Внутренний голос совести в ней говорил, что она много и много огорчала мать свою при ее жизни. «Что ж, и мой сын, вероятно, будет огорчать меня впоследствии!» – сказала Елена в утешение себе. Потом, когда ей принесли опись вещам, оставшимся после матери, она просила все эти вещи отдать горничной Марфуше, сознавая в душе, что та гораздо более ее была достойна этого наследства. Полиция и на этот раз, уделив себе еще кое-что, передала Марфуше решительно одно только тряпье. Покуда все это происходило, Елпидифор Мартыныч занят был новым делом: приездом княгини Григоровой и свиданием ее с мужем.