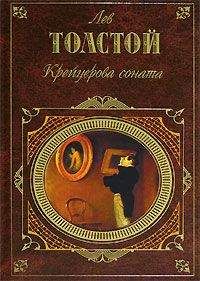Лев Толстой - Том 12. Произведения 1885-1902 гг
И вот видит он себя почти ребенком, в доме матери в деревне. И к ним подъезжает коляска, и из коляски выходят: дядя Николай Сергеевич, с огромной, лопатой, черной бородой, и с ним худенькая девочка Пашенька, с большими кроткими глазами и жалким, робким лицом. И вот им, в их компанию мальчиков, приводят эту Пашеньку. И надо с ней играть, а скучно. Она глупая. Кончается тем, что ее поднимают на смех, заставляют ее показывать, как она умеет плавать. Она ложится на пол и показывает на сухом. И все хохочут и делают ее дурой. И она видит это и краснеет пятнами и становится жалкой, такой жалкой, что совестно и что никогда забыть нельзя этой ее кривой, доброй, покорной улыбки. И вспоминает Сергий, когда он видел ее после этого. Видел он ее долго потом, перед поступлением его в монахи. Она была замужем за каким-то помещиком, промотавшим все ее состояние и бившим ее. У нее было двое детей: сын и дочь. Сын умер маленьким.
Сергий вспоминал, как он видел ее несчастной. Потом он видел ее в монастыре вдовой. Она была такая же — не сказать глупая, но безвкусная, ничтожная и жалкая. Она приезжала с дочерью и ее женихом. И они были уже бедны. Потом он слышал, что она живет где-то в уездном городе и что она очень бедна. «И зачем я думаю о ней? — спрашивал он себя. Но не мог перестать думать о ней. Где она? Что с ней? Так ли она все несчастна, как была тогда, когда показывала, как плавают, по полу? Да что мне об ней думать? Что я? Кончить надо».
И опять ему страшно стало, и опять, чтобы спастись от этой мысли, он стал думать о Пашеньке.
Так он лежал долго, думая то о своем необходимом конце, то о Пашеньке. Пашенька представлялась ему спасением. Наконец он заснул. И во сне он увидал ангела, который пришел к нему и сказал: «Иди к Пашеньке и узнай от нее, что тебе надо делать, и в чем твой грех, и в чем твое спасение».
Он проснулся и, решив, что это было виденье от бога, обрадовался и решил сделать то, что ему сказано было в видении. Он знал город, в котором она живет, — это было за триста верст, — и пошел туда.
VIII
Пашенька уж давно была не Пашенька, а старая, высохшая, сморщенная Прасковья Михайловна, теща неудачника, пьющего чиновника Маврикьева. Жила она в том уездном городе, в котором зять имел последнее место, и там кормила семью: и дочь, и самого больного, неврастеника зятя, и пятерых внучат. А кормила она тем, что давала уроки музыки Купцовым дочкам, по пятьдесят за час. В день было иногда четыре, иногда пять часов, так что в месяц зарабатывалось около шестидесяти рублей. Тем и жили покамест, ожидая места. С просьбами о месте Прасковья Михайловна послала письма ко всем своим родным и знакомым, в том числе и к Сергию. Но письмо это не застало его.
Была суббота, и Прасковья Михайловна сама замешивала сдобный хлеб с изюмом, который так хорошо делал еще крепостной повар у ее папаши. Прасковья Михайловна хотела завтра к празднику угостить внучат.
Маша, дочь ее, нянчилась с меньшим, старшие, мальчик и девочка, были в школе. Сам зять не спал ночь и теперь заснул. Прасковья Михайловна долго не спала вчера, стараясь смягчить гнев дочери на мужа.
Она видела, что зять — слабое существо, не мог говорить и жить иначе, и видела, что упреки ему от жены не помогут, и она все силы употребляла, чтобы смягчить их, чтоб не было упреков, не было зла. Она не могла физически почти переносить недобрые отношения между людьми. Ей так ясно было, что от этого ничто не может стать лучше, а все будет хуже. Да этого даже она не думала, она просто страдала от вида злобы, как от дурного запаха, резкого шума, ударов по телу.
Она только что самодовольно учила Лукерью, как замешивать опару, когда Миша, шестилетний внук, в фартучке, на кривых ножках, в штопаных чулочках, прибежал в кухню с испуганным лицом.
— Бабушка, старик страшный тебя ищет.
Лукерья выглянула:
— И то, странник какой-то, барыня.
Прасковья Михайловна обтерла свои худые локти один о другой и руки об фартук и пошла было в дом за кошельком подать пять копеек, но потом вспомнила, что нет меньше гривенника, и решила подать хлеба и вернулась к шкапу, но вдруг покраснела, вспомнив, что она пожалела, и, приказав Лукерье отрезать ломоть, сама пошла сверх того за гривенником. «Вот тебе наказанье, — сказала она себе, — вдвое подай».
Она подала, извиняясь, и то и другое страннику, и когда подавала, не только уж не гордилась своей щедростью, а, напротив, устыдилась, что подает так мало. Такой значительный вид был у странника.
Несмотря на то, что он триста верст прошел Христовым именем, и оборвался, и похудел, и почернел, волосы у него были обстрижены, шапка мужицкая и сапоги такие же, несмотря на то, что он смиренно кланялся, у Сергия был все тот же значительный вид, который так привлекал к нему. Но Прасковья Михайловна не узнала его. Она и не могла узнать его, не видав его почти тридцать лет.
— Не взыщите, батюшка. Может, поесть хотите?
Он взял хлеб и деньги. И Прасковья Михайловна удивилась, что он не уходит, а смотрит на нее.
— Пашенька. Я к тебе пришел. Прими меня.
И черные прекрасные глаза пристально и просительно смотрели на нее и заблестели выступившими слезами. И под седеющими усами жалостно дрогнули губы.
Прасковья Михайловна схватилась за высохшую грудь, открыла рот и замерла спустившимися зрачками на лице странника.
— Да не может быть! Степа! Сергий! Отец Сергий.
— Да, он самый, — тихо проговорил Сергий. — Только не Сергий, не отец Сергий, а великий грешник Степан Касатский, погибший, великий грешник. Прими, помоги мне.
— Да не может быть, да как же вы это так смирились? Да пойдемте же.
Она протянула руку; но он не взял ее и пошел за нею.
Но куда вести? Квартирка была маленькая. Сначала была отведена комнатка крошечная, почти чуланчик, для нее, но потом и этот чуланчик она отдала дочери. И теперь там сидела Маша, укачивая грудного.
— Сядьте сюда, сейчас, — сказала она Сергию, указывая на лавку в кухне.
Сергий тот час же сел и снял, очевидно уж привычным жестом, сначала с одного, потом с другого плеча сумку.
— Боже мой, боже мой, как смирился, батюшка! Какая слава и вдруг так…
Сергий не отвечал и только кротко улыбнулся, укладывая подле себя сумку.
— Маша, это знаешь кто?
И Прасковья Михайловна шепотом рассказала дочери, кто был Сергий, и они вместе вынесли и постель и люльку из чулана, опростав его для Сергия.
Прасковья Михайловна провела Сергия в каморку.
— Вот тут отдохните. Не взыщите, А мне идти надо.
— Куда?
— Уроки у меня тут, совестно и говорить — музыке учу.
— Музыке — это хорошо. Только одно, Прасковья Михайловна, я ведь к вам за делом пришел. Когда я могу поговорить с вами?
— За счастье почту. Вечером можно?
— Можно, только еще просьба: не говорите обо мне, кто я. Я только вам открылся. Никто не знает, куда я ушел. Так надо.
— Ах, а я сказала дочери.
— Ну, попросите ее не говорить.
Сергий снял сапоги, лег и тотчас же заснул после бессонной ночи и сорока верст ходу.
Когда Прасковья Михайловна вернулась, Сергий сидел в своей каморке и ждал ее. Он не выходил к обеду, а поел супу и каши, которые принесла ему туда Лукерья.
— Что же ты раньше пришла обещанного? — сказал Сергий. — Теперь можно поговорить?
— И за что мне такое счастие, что такой посетитель? Я уж пропустила урок. После… Я мечтала все съездить к вам, писала вам, и вдруг такое счастье.
— Пашенька! пожалуйста, слова, которые я скажу тебе сейчас, прими как исповедь, как слова, которые я в смертный час говорю перед богом. Пашенька! я не святой человек, даже не простой, рядовой человек: я грешник, грязный, гадкий, заблудший, гордый грешник, хуже, не знаю, всех ли, но хуже самых худых людей.
Пашенька смотрела сначала выпучив глаза; она верила. Потом, когда она вполне поверила, она тронула рукой его руку и, жалостно улыбаясь, сказала:
— Стива, может быть, ты преувеличиваешь?
— Нет, Пашенька. Я блудник, я убийца, я богохульник и обманщик.
— Боже мой! Что ж это? — проговорила Прасковья Михайловна.
— Но надо жить. И я, который думал, что все знаю, который учил других, как жить, — я ничего не знаю, и я тебя прошу научить.
— Что ты, Стива. Ты смеешься. За что вы всегда смеетесь надо мной?
— Ну, хорошо, я смеюсь; только скажи мне, как ты живешь и как прожила жизнь?
— Я? Да я прожила самую гадкую, скверную жизнь, и теперь бог наказывает меня, и поделом, и живу так дурно, так дурно…
— Как же ты вышла замуж? как жила с мужем?
— Все было дурно. Вышла — влюбилась самым гадким манером. Папа не желал этого. Я ни на что не посмотрела, вышла. И замужем, вместо того чтобы помогать мужу, я мучила его ревностью, которую не могла в себе победить.
— Он пил, я слышал.
— Да, но я-то не умела успокоить его. Упрекала его. А ведь это болезнь. Он не мог удержаться, а я теперь вспоминаю, как я не давала ему. И у нас были ужасные сцены.