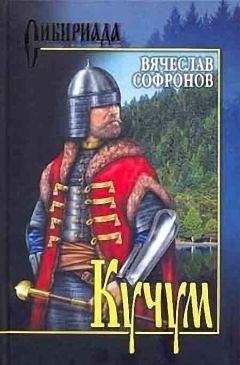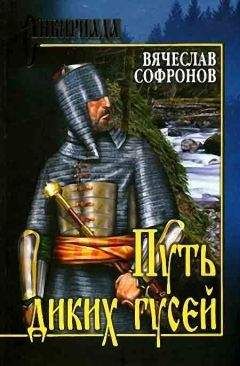Максим Горький - Том 17. Рассказы, очерки, воспоминания 1924-1936
— Правильно.
Перевернули. И, глядя в раздутое, выпачканное землёй лицо, Серах ласково спросил:
— Ты что же это, Владимир Павлыч, дерёшься? Налетел, наскочил и без доброго слова — плетью хлещешь? Не годится эдак-то! Мы — не скот. Мы тебе зла не сделали…
Красовский, всхрапывая, как лошадь, стирал с лица, с бороды землю и молчал.
— Высудил с нас дело-то да с нас же издержки ищешь, — заговорили мужики.
— Да-а…
— Теперь нам осталось по миру идти.
Красовский молчал, поглаживая кисть руки, потряхивая головой. Митрий Плотников пытался выправить на своём колене измятую дворянскую фуражку и бормотал:
— Сердиться не тебе надо, Владимир Павлыч, мы — обиженные, нам полагается сердиться-то. Ушиб ручку-то? То-то.
Кто-то заметил:
— Мяса много, а косточки тонкие…
— Убить его надо, — хрипло сказал Трифон Лобов.
— Что вы хотите? — глухо спросил Красовский, не глядя ни на кого.
Мужики дружно загалдели:
— Мы хотим миром кончить.
— Издержки платить нет сил у нас!
— Не будем, так и знай!
— Стыдился бы нищих грабить.
— Чего вы хотите? — повторил помещик.
— Не согласны мы с твоим судом.
— Планы твои — фальшивые, вот что, барин…
— Мошенству учат вас…
Красовский осторожно поднялся на ноги и, оглядывая всех невидимыми из-под густых бровей глазами, заговорил с хрипотцой, покашливая:
— Всякое дело можно миролюбиво решить. А вы сено подожгли.
— Не-ет, — закричал Плотников с радостью. — Нет, мы сено не поджигали! Присягу дадим. Мы на пожар пришли…
— Помочь чтобы, — уныло сказал кто-то.
— Думали — усадьба горит.
— За сено не отвечаем.
— Спроси своих — они у стогов были, когда мы пришли.
— Дрожки разбили, — сказал Красовский.
Плотников подал ему фуражку, говоря не совсем уверенно:
— Дрожки — это лошадь будто разбила…
Мужики молча посмотрели на Лобова, он тряхнул головой.
— Ну, чего врать? Как малые ребята. Я дрожки изломал. К чёртовой матери…
— Вот видите, — сказал помещик и шагнул в сторону усадьбы, перед ним расступились. Тогда он пошёл увереннее, быстрее, помахивая платком в красное лицо своё, держа в руке фуражку, и сказал:
— Дым какой едкий…
Это была неоспоримая правда: потянул утренний ветерок и окутал людей густым облаком серого дыма. Митрий Плотников, шагая рядом с барином, поддержал его:
— Сено ещё ничего, а вот солома совсем ядовито дымит. В Орловской губернии в некоторых деревнях соломой печи топят, а избы-то курные, печи без труб, для пущей теплоты, дым-то прямо в избу идёт — беда! Очень глаза страдают от этого…
Сзади словоохотливого мужичка и внимательно молчавшего барина шагало, перешёптываясь, человек десять, а другие, постепенно отставая, на минуту останавливались в поле, точно часовые, затем собирались в кучки, спрашивая друг друга:
— Обманет?
— А как знать?
— Они, господа, капризные…
— Н-да…
— Им и добро сделать недорого стоит.
Лобов дошёл до остатков дрожек, постоял над ними, взял колесо, швырнул его, оно немножко покатилось и легло. Он взял другое, приладился, пустил его. Это колесо, подпрыгивая на кротовых кочках, укатилось дальше. Почёсывая грудь, Лобов медленно пошёл в деревню. Всходило солнце, мужик шёл против него, нахмурив тяжёлые брови, пряча серые сердитые глаза.
Двое суток Дубовка прожила в тревожном и унылом ожидании каких-то событий, но события не торопились, и жизнь текла надоедливо медленно. По утрам кое-где сухо барабанили цепы, молотя рожь, — собрали её по 12–15 пудов с десятины. Вечерами скучно выпивали у кого-нибудь в овине, и Серах, пошевеливая пальцами в плотной бородище, размышлял:
— Лето было вредное, а осень — на-ко, вот! Праздник какой выдался. И всё так…
— Что всё? — спросили его.
— Несогласно в жизни, — объяснил он.
Белкин исчез куда-то, Василия Плотникова вызвали на охоту, ушла Христина, Глухонемой брат старосты Грачёва забил дверь лавки Белкина досками, закрыл окна ставнями и сидел на завалинке, не подпуская к лавке мальчишек, грозя им палкой и мыча, как бычок.
На третьи сутки утром мальчишки подняли тревогу, закричав:
— Солдаты идут!
Деревня настороженно притихла.
Въехал с поля верхом на сером коне толстый, круглолицый офицер в очках, со смешной крохотной бородкой под нижней губой, за ним по четверо в ряд вошла колонна солдат и походная кухня с длинной трубой, похожая на огромного гуся. Офицер приказал мальчишкам позвать старосту. Они объяснили:
— Староста в больнице, помирает, ему брюхо взрезали.
Офицер строго крикнул:
— Зовите, кто у вас тут старший?
Мальчишки живо привели солдата Еракова, он встал во фронт, отдавая честь, и выслушал приказ:
— Чтоб ни одна душа из деревни не выходила, а к полудню собрать всех взрослых — понял?
— Так точно.
— Солдат?
— Так точно. Севастополь защищал.
— Сколько лет тебе?
— Восемьдесят два.
Ераков покосился на врагов своих — мальчишек и вполголоса заговорил:
— Осмелюсь доложить вашему благородию — народ здесь от мала до велика вор и буян…
— Ну, иди, старик! Марш! — сердито сказал офицер.
Оставив половину солдат на улице, другую он растыкал по одному вокруг деревни, по огородам. Солдаты были не страшны: мелкорослые, пыльные, в стареньких, потёртых шинелях, а сапоги почти на всех новые, рыжей кожи.
— Это что же будет? — спрашивали миряне друг друга, выходя на улицу, рассаживаясь по завалинкам и посматривая на серое войско. Митрий Плотников торопливо и успокоительно объяснял:
— Обыкновенная маневра, как полагается осенью на случай войны. Государи любят зимой воевать, когда народу свободно. Ну, вот эти, значит, вроде как бы взяли нас в плен, а другие придут вышибать этих…
— Врёшь! — радостно покрикивал Ераков. — Это пороть вас будут, пороть…
— Когда ты, Ераков, лопнешь со зла? — спрашивали его, не веря историческому опыту защитника Севастополя.
Офицер ушёл в избу старосты. У Софрона Грачёва был самый большой самовар из четырёх медных в деревне, остальные чаепийцы пользовались дешёвыми жестяными. Войско развалилось в верхнем конце деревни на земле, как овечье стадо, над ним колебались зеленоватые струйки махорочного дыма и лениво крутился серый дым походной кухни.
Дубовцы пытались заговаривать с солдатами, но какой-то с саблей на боку унтер или фельдфебель свирепо отгонял их прочь. Серах пробовал побеседовать с часовым, но часовой, не подпуская его к себе, закричал:
— Назад!
— Да мне вот к речке!
— Назад! — повторил часовой, неприятно пошевеливая ружьём.
В деревне стало необыкновенно тихо, даже собаки забыли, что на чужих следует лаять, и не кудахтали куры, припрятанные догадливыми бабами. Тепло и ласково сияло солнце, освещая дубовцев на завалинах, точно нищих на церковной паперти. К полудню улица опустела, народ разбрелся по избам обедать, солдаты тоже занялись этим делом. А почти тотчас после обеда, откуда-то сверху, как будто с крыши, пугливо крикнули:
— Еду-ут…
— Стройся, — приказал воин с саблей на боку. — Губернатор едет, — сказал он кому-то.
Со двора Грачёва выбежал офицер и скомандовал:
— Смир-рно!
Солдаты вскочили, построились, одеревенели, и в деревню въехал губернатор. Приехал он не в гости, а, видимо, по делу, и не один, а в сопровождении четырёх конных полицейских. Рядом с ним в коляске сидел толстый важный человек с круглым и усатым лицом старого кота из богатого дома. Губернатор выскочил из коляски лёгкий, тонкий, серый, вытер платком лицо, обмахнул серебряную бородку и, здороваясь с офицером, громко сказал:
— Надо было на колени поставить…
— Не имел приказания, ваше превосходительство.
— Ну да, я знаю! Это должен был исправник, но я его обогнал.
Затем губернатор, офицер и усатый человек ушли в избу старосты, а кучер губернатора тихонько двинул страховидных лошадей вдоль улицы, — лошади шли, высоко поднимая сухие, гладкие ноги, зверски оскалив зубы, фыркая, брызгая пеной и поглядывая на людей искоса, свирепо, глаза их были налиты кровью и внушали уныние.
Некоторое время спустя бешено примчался в облаке пыли ещё экипаж, в нём сидели исправник [36], становой пристав [37], старуха в сером платье с красным крестом на груди и красной перевязью на рукаве, их сопровождали трое урядников [38] верхом. И наконец бойкая пёстрая лошадка прикатила бричку с грузом, зашитым в рогожу. Затем всё двинулось так быстро, как будто поехало с крутой горы.
Полицейские, согнав дубовцев в кучу, выравняли их в два ряда, и один, с медалями на груди, приказал:
— Становись на колени!
— И бабы? — спросил Серах.