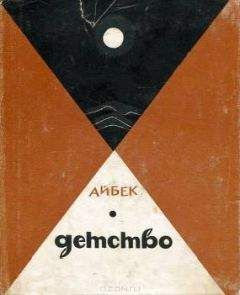Лев Толстой - Том 1. Детство, Отрочество, Юность
— Ах, как я вам благодарен! Я никогда не был так счастлив, — отвечал он с жаром, сжимая его руку.
VII
А она могла бы быть счастлива
Приехав домой, графиня по привычке спросила о графе. Он еще не возвращался. В первый раз ей было приятно слышать, что его нет. Ей хотелось хоть на несколько часов отдалить от себя действительность, показавшуюся ей с нынешнего вечера тяжелою, и пожить одной с своими мечтами. Мечты были прекрасные.
Сережа был так мало похож на всех тех мужчин, которые окружали ее до сих пор, что он не мог не остановить ее внимания. В его движениях, голосе, взгляде лежал какой-то особенный отпечаток юности, откровенности, теплоты душевной. Тип невинного мальчика, не испытавшего еще порывов страстей и порочных наслаждений, который у людей, не уклоняющихся от закона природы, должен бы быть так обыкновенен и, к несчастью, так редко встречающийся между ними, был для графини, жившей всегда в этой неестественной сфере, называемой светом, <но не утратившей в ней благодаря своей счастливой, особенно простой и доброй натуре, любви ко всему истинно-прекрасному — был для нее> самою увлекательною прелестною новостью. По моему мнению, в ночном белом капоте и чепчике она была еще лучше, чем в бальном платье. Забравшись с ножками на большую кровать и облокотившись ручкой на подушки, она пристально смотрела на бледный свет лампы. На хорошеньком ротике остановилась грустная полуулыбка.
— Можно взойти, Лиза? — спросил голос графа за дверью.
— Войди, — отвечала она, не переменяя положения.
— Весело ли тебе было, мой друг? — спросил граф, целуя ее.
— Да.
— Что ты такая грустная, Лиза, уж не на меня ли ты сердишься?
Графиня молчала, и губки ее начинали слегка дрожать, как у ребенка, который собирается плакать.
— Неужели ты точно на меня сердишься за то, что я играю. Успокойся, мой дружок, нынче я все отыграл и больше играть не буду…
— Что с тобой? — прибавил он, нежно целуя ее руки, заметив слезы, которые вдруг потекли из ее глаз.
Графиня не отвечала, а слезы текли у нее из глаз. Сколько ни ласкал и ни допрашивал ее граф, она не сказала ему, о чем она плачет; а плакала все больше и больше.
Оставь ее, человек без сердца и совести. Она плачет именно о том, что ты ласкаешь ее, что имеешь право на это; о том, что отрадные мечты, наполнявшие ее воображение, разлетелись, как пар, от прикосновения действительности, к которой она до нынешнего вечера была равнодушна, но которая стала ей отвратительна и ужасна с той минуты, как она поняла возможность истинной любви и счастия.
VIII
Знакомство со всеми уважаемым барином
— Что, скучаешь, любезный сын? — сказал князь Корнаков Сереже, который с каким-то странным выражением равнодушия и беспокойства ходил из комнаты в комнату, не принимая участия ни в танцах, ни в разговорах.
— Да, — отвечал он, улыбаясь, — хочу уехать.
— Поедем ко мне, — nous causerons[135].
— Надеюсь, ты здесь не остаешься ужинать, Корнаков? — спросил проходивший в это время с шляпой в руках твердым, уверенным шагом через толпу, собравшуюся у двери, толстый, высокий мужчина лет 40, с опухшим, далеко не красивым, но чрезвычайно нахальным лицом.
— Ты кончил уж партию?
— Слава богу, успел до ужина и бегу от фатального майонеза с русскими трюфелями, тухлой стерляди и тому подобных любезностей, — кричал он почти на всю залу,
— Где ты будешь ужинать?
— Или у Трахманова, ежели он не спит, или в Новотроицком; поедем с нами. Вот и Аталов едет.
— Что, поедем, Ивин? — сказал князь Корнаков. — Вы знакомы? <прибавил он толстому господину.> Сережа сделал отрицательный знак головою.
— Сергей Ивин, сын Марьи Михайловны, — сказал князь.
— Очень рад, — сказал толстый господин, не глядя на него, подавая свою толстую руку и продолжая идти дальше. — Приезжайте же скорей.
Я полагаю, что ни для кого не нужно подробное описание типа толстого господина, которого звали H. H. Долговым. Верно, каждый из моих читателей ежели не знает, то видал, или, по крайней мере, слыхал про H. H., поэтому достаточно несколько характеристических признаков, чтобы лицо это во всей полноте своей ничтожности и подлости возникло в его воображении. По крайней мере, это так для меня. Богатство, знатность, уменье жить, большие разнообразные способности, погибнувшие или изуродованные праздностью и пороком. Цинический ум, не останавливающийся ни перед каким вопросом и обсуживающий всякий в пользу низких страстей. Совершенное отсутствие совести, стыда и понятия о моральных наслаждениях. Нескрытый эгоизм порока. Дар грубого и резкого слова. Сладострастие, обжорство, пьянство; презрение ко всему, исключая самого себя. Взгляд на вещи только с 2-х сторон: со стороны наслаждения, которое они могут доставить, и их недостатков, и две главные черты: бесполезная, бесцельная, совершенно праздная жизнь и самый гнусный разврат, который он не только не скрывает, а, как будто находя достоинство в своем цинизме, с радостью обнаруживает. Про него говорят, что он дурной человек; но всегда и везде его уважают и дорожат связями с ним; он это знает, смеется и еще более презирает людей. И как ему не презирать того, что называют добродетелью, когда он всю жизнь попирал ее и все-таки по-своему счастлив, то есть страсти его удовлетворены и он уважаем.
Сережа был в необыкновенно хорошем расположении духа. Присутствие князя Корнакова, который очень нравился ему и имел на него почему-то особенное влияние, доставляло ему большое удовольствие. И короткое знакомство с таким замечательным человеком, как толстый господин, приятно щекотало его тщеславие. Толстый господин сначала мало обращал внимания на Сережу; но по мере того, как казак-половой, которого, приехав в Новотроицкой, он потребовал, приносил заказанные расстегаи и вино, он становился любезнее и, заметив развязность молодого человека, стал с ним говорить (такие люди, как Долгов, ничего так не любят, как застенчивость), трепать по плечу и чокаться.
Мысли и чувства влюбленного так сильно сосредоточены на один предмет, что он не имеет времени наблюдать, анализировать людей, с которыми встречается; а ничто так не мешает короткости и свободе в отношениях, как склонность, в особенности очень молодых людей, не брать людей за то, чем они себя показывают, а допытываться их внутренних, скрытых побуждений и мыслей.
Кроме того, Сережа чувствовал в этот вечер особенную охоту и способность без малейшего труда быть умным и любезным.
Знакомство с отставным генералом, кутилою Долговым, бывшее одно время мечтою его тщеславия, теперь не доставляло ему никакого удовольствия. Ему казалось, напротив, что он делает удовольствие и честь этому генералу, ежели говорит с ним, потому что вместо того, чтобы говорить с ним, он мог бы говорить с ней или думать о ней. Прежде он никак не смел говорить Корнакову ты, хотя этот последний часто обращался к нему в единственном числе, теперь он совершенно смело тыкал его, и тыканье это доставляло ему необыкновенное удовольствие. Ласковый взгляд и улыбка графини придали ему более самостоятельности, чем ум, красота, кандидатство и всегдашние похвалы: в один час из ребенка сделали мужчину. Он вдруг почувствовал в себе все те качества мужчины, недостаток которых ясно сознавал в себе: твердость, решимость, смелость и гордое сознание своего достоинства. Внимательный наблюдатель заметил бы даже перемену в его наружности за этот вечер. Походка стала увереннее и свободнее, грудь выпрямилась, руки не были лишними, голова держалась выше, в лице исчезла детская округленность и неопределенность черт, мускулы лба и щек выказывались отчетливее, улыбка была смелее и тверже.
VIII [IX]
<Кутеж>
Веселье
В маленькой задней красной комнате Новотроицкого трактира, занимаемой только людьми, пользующимися в этом трактире особенной известностью, сидели наши четыре знакомые за длинным накрытым столом.
— Знаете, за чье здоровье, — сказал Сережа князю Корнакову, наливая бокал и поднося к губам. Сережа был очень красен, и в глазах у него было что-то масляное, неестественное.
— Выпьем, — отвечал Корнаков, изменяя бесстрастное скучающее выражение своего лица ласковой улыбкой.
Тост за здоровье неназываемой особы был повторен несколько раз.
Генерал, снявши галстук, с сигарой в руке лежал на диване, перед ним стояла бутылка коньяку, рюмочка и кусок сыру, он был немного краснее и одутловатее, чем обыкновенно, по его наглым, несколько сощурившимся глазам видно было, что ему хорошо.
— Вот это я люблю, — говорил он, глядя на Сережу, который, сидя перед ним, выпивал один бокал за другим, — когда было время, что и я пил так же шампанское. Бутылку выпивал за ужином на бале и потом как ни в чем не бывало танцевал и был любезен, как никогда.