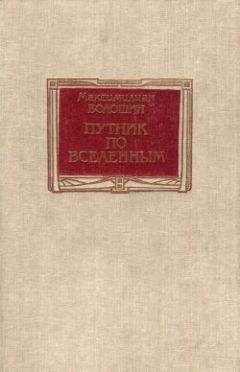Влас Дорошевич - Каторга
- Что такое? Что случилось?
- Ничего... ничего... Не надоть-с...
Спирт, совершенно случайно, оказался камфарный. Я поспешил закрыть пузырек.
- Не могу я этого запаху переносить! - виновато улыбаясь, говорил Викторов, а у самого губы белые, и зуб на зуб не попадет.
Так врезалась ему в памяти эта камфара.
- Вытащил я корзину в соседнюю комнату, прибрал все, и схватил меня страх сызнова.
Две ночи не мог спать Викторов, пил "для храбрости", - выпил "побольше полведра водки".
- Выпью, захмелею и ем... Ел с апекитом, потому много пил... А протрезвею, - страшно... И выйти боюсь, - сейчас вот, думаю, как уйду, так без меня придут и откроют... И дома сидеть жутко... Сижу, а мне кажется, что в соседней комнате кто-то вздыхает... Подойду к двери... В комнату-то страшной войти, чтоб не привиделось что... Послушаю у двери, - тихо... Опять сяду водку пить... Опять вздыхает... Страх такой брал!..
2 июля он, наконец, решился выйти. Нанял ломовика, привел и с ним вместе вынес корзину из квартиры.
- Корзина ничего... только камфарой шибко пахло... Как выходил, все окна открыл, чтобы проветрило...
Как происходила отправка, Викторов, после трех бессонных ночей, убийства и полведра выпитой водки, - помнит как сквозь сон.
- Помню, четыре раза с ломовиком в трактиры заходили... Все по бутылке водки выпивали, так что он, в конце концов, хмельной стал, а я хоть бы что... Иду за ломовым, только ноги у меня подламываются... Вот-вот на мостовую сяду. Приехали на Смоленский вокзал... "Вот сейчас, - думаю, открыть корзину велят"... Зуб на зуб не попадает... "Что такое?" "Меховые вещи"... - говорю. "Напишите, - говорят, - кому и от кого отправляете!" Чуть-чуть "Викторов" не подмахнул. Да опомнился. Фамилью, думаю, надо выдумать. И хоть бы что! Лезет в голову одна фамилия "Викторов". "Скорее! - говорят. - Чего ж вы?" Тут у меня Васильев с Владимировым в голове завертелись, я и подмахнул... Получил накладную, хожу, все чудится, вот-вот сзади крикнут: "Стой". Вышел на площадь, голова закружилась, к фонарному столбу прислонился, всей грудью вздохнул: чисто тяжесть с плеч свалилась. Иду по улице, ног под собой не чувствую, радуюсь. Пришел домой, в соседнюю комнату заглянул, - быдто не здесь ли! Сам над собой усмехнулся за этакое малодушество. И завалился спать... И хоть бы мне что!
На следующий день, 3 июля, Викторов "честь-честью" сходил на квартиру к "покойнице", сказал, что она неожиданно в деревню уехала, - весть получила, мать при смерти, - забрал ее вещи, снес и заложил в ломбард:
- Не пропадать же им, на игру надоть было.
И началась жизнь "спокойная":
- Афишка. По трактирам бегаю, советуюсь, на пробные галопы гоняю. Играю. Где бы денег промыслить, - думаю... Ихние-то деньги сразу продул... Лошади у меня в голове. Сам часом диву даешься: словно ничего и не было. Быдто сон. Сам в другой раз себя спрашиваешь, не сон ли был? Только камфарой в комнатах еще попахивает, как окна ни растворяешь. Но меня это мало беспокоило. Лошади и лошади, - так игра скрутилась, что либо пан, либо пропал. Большие призы кончились. Первый класс ушел. Скачут все лошади фуксовые. Выдачи огромадные. Тут в лошадях не разберешься, когда о другом думать?
Как вдруг однажды, развернув газету, чтоб прочесть про скачки, Викторов прочел:
- "Страшная находка в Брест-Литовске".
- И поплыло, и поплыло все перед глазами. Буквы прыгают. В комнате-то рядом охает кто-то, стонет. Камфарный запах по носу режет. По коридору идет кто-то. Мысли кругом. Что ж это, думаю, я наделал? Страх меня взял и ужас... Жду, не дождусь, когда жильцы из сыскного с занятиев вернутся... Пришли, сам что было, духу собрал, к ним пошел, водочкой угостил, спрашиваю: "Ничего не слыхать про труп-то, изрубленный в Брест-Литовском? Нынче в газетах читал. Экий страх-то какой! Какие нынче дела творятся". "Нет, - говорит, - ничего не слыхать, кто убил". У меня от сердца и отлегло. "Но только, - говорят, - сам Эффенбах за дело взялся. От начальства ему приказ вышел, чтоб беспременно отыскать. Наверное, отыщут". Так они у меня от этих слов в глазах и запрыгали.
Тут уж началась "жизнь беспокойная".
- Куда деваться - не знаю. Куда ни пойду - покойница. Останешься ночью дома, заведешь глаза, входит... Головку запрокинет так, горло раскроется, кровь бежит. Стал по публичным домам ночевать ходить, - и там приставляется. Пью и играю. Бесперечь пью. И ежели бы не скачки, - ума бы решился.
Вряд ли когда-нибудь господам спортсменам снилось, чтобы тотализатор сыграл такую роль.
- Закрутил игру так, - на все. Кручусь, кручусь, - и покуда скачки, ничего, отлегает, ни о чем не думаешь. А кончились скачки, - пить. Пью и не пьянею. И все мне они. Все они. Побег в церкву, отслужил панихиду, перестала день, два являться. Потом опять, - я опять по ним панихиду. Панихид четыре-пять справил, - все по разным церквам. Отслужишь, полегчает, потом опять приставляется.
Как назло, жильцы только и говорили, что о "загадочном убийстве".
"Загадочное убийство" волновало всю Москву. Сыскная полиция сбилась с ног от розысков и, возвращаясь домой, агенты только об этом и говорили:
- Все еще не разыскали. Словно в воду канул. Но ничего, - разыщем! Непременно разыщем!
- Чувствую: с ума схожу. Мечусь! По публичным домам ночую, утром на галопы. Скачки. Со скачек в церкву бегу панихиду служить. По трактирам пью. Вечером домой на минутку бегу, узнать: как? что?!. Мечусь... Вхожу к ним, словно жду, - вот-вот смертный приговор услышу. "Что?" - спрашиваю, а сам глянуть боюсь. А как скажут "ничего", - ног под собой не чувствую. Сколько разов после этого к себе в комнату побежишь, хохотать что-то начнешь, удержу нет. В подушку уткнешься, чтоб не слышно было, "ничего!" в подушку кричишь. Сам-то хохочешь, а в нутре-то страшно. И вдруг "они" представляются... Опять пить, опять из дому бегать, опять панихиды служить. Мечусь.
Метанье кончилось тем, что однажды, на скачках, к Викторову подошли:
- Вас вызывают в сыскную полицию.
- У меня руки-ноги отнялись... "Да нет, - думаю, - не за этим". Много у меня разных делов накопилось: потому за это время, - говорю, - закрутил игру вовсю, - у родных все вещи на игру перетаскал. Привезли меня в сыскную. В комнату вводят. Полутемная такая комната. Народу много было, спиной к окнам стояли, свет застили. Стол, сначала я не разобрал, что в нем такое! А как меня подвели, - я и крикнул... Корзинка, белье, клеенка, плашка... Остолбенел я, кричу только: "Не подводите! Не подводите!" А Эффенбах меня в спину подталкивает: "Идите, - говорит, - идите, не бойтесь. Это из Брест-Литовска". - "Не подводите! - ору. - Во всем сознаюсь, только не подводите"...
Сидя в сыскном отделении, Викторов давился на отдушнике при помощи рубашки.
- Они измучили... Покойница... Завяжу глаза, - здесь они, со мной сидят... "Вот, - говорят, - Коля, где мы с тобой". Не выдержал. Да и смерти ждать страшно было.
Как и очень многие, Викторов ждал "беспременно веревки".
- Уж я вам говорю. Вы на суде не были? Меня прокурор обвинял, господин Хрулев...
- А защищал кто?
- Не помню. Не интересовался. Без надобности. А обвинял Хрулев по фамилии. Так вот посередке стол стоял, на нем бельецо ихнее, скомканное, слиплое, черное стало, клееночка. А около корзинка та самая стояла... Как эти вещи-то внесли, я чувства лишился. Страшно стало. На суде-то я сдрейфил, что сам говорил, что кругом говорили, - не сознавал. А только вот это-то помню, что господин Хрулев на корзинку показывали, - требовали, чтобы и со мной то же сделали. На части, стало быть, разрубить!
Большинство этих "знаменитых убийц" уверено, что им "веревки не миновать за убийство".
- За этим-с и покойницу на части рубил и отсылал, - веревки боялся.
И большинству на суде, среди страха и ужаса, кажется, что прокурор требует смертной казни.
- Когда вышел приговор в каторгу, - ушам не поверил, - говорит, как и очень многие, Викторов.
В каторге он жалуется на слабость здоровья:
- Пища плохая, и главная причина, - ночи бессонные! Думаю все.
- О чем же?
- О прошлом. Господи, глупо как все было! Если бы вернуть!.. Ну, и спать тоже иногда боязно... Когда их душа там мучается... Грешница ведь была, блудная-с... Когда ихней душе там невмоготу...
- Что же? Является?
- Приходят.
И весь съежившись, вздрагивая, этот жалкий, тщедушный, весь высохший человек, понизив голос, говорит:
- Главная причина - денег нет... Панихидки по них отслужить не могу... Чтоб успокоились.
Специалист
Лет десять тому назад в Одессе было совершено "громкое" преступление.
Старик-банкир Лившиц был найден задушенным в постели. Ничего украдено не было. Стоявшая в соседней комнате несгораемая касса с деньгами оказалась нетронутой. В кухне лежала связанная по рукам и ногам, с завязанным ртом, задыхавшаяся кухарка Лея Каминкер.
Она рассказала, что ночью в квартиру ворвались какие-то люди в масках, пригрозили ее убить, если будет кричать, связали, бросили и пошли в комнаты. Что там происходило, - она не знает.
Начались розыски, про которые потом на суде рассказывались ужасы. Один из взятых по подозрению даже повесился в участке.