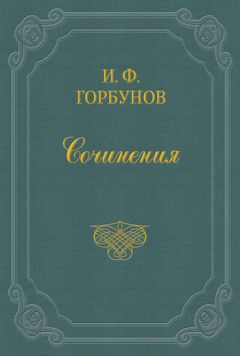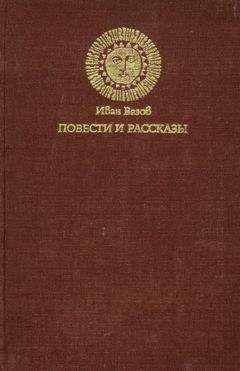Максим Горький - Том 5. Повести, рассказы, очерки, стихи 1900-1906
Раньше я не слыхал, чтоб в этом доме матери баюкали детей такими, любящими голосами. Я тихо встал, посмотрел за бочки и увидел: в одном из ящиков сидела маленькая девочка. Низко наклонив русую, кудрявую головку, она тихо покачивалась и задумчиво напевала:
Уж ты спи, ты усни,
Угомон тебя возьми…
В маленьких, грязных ручонках она держала черенок деревянной ложки, окутанный в красную тряпку, и смотрела на него большими, грустными глазками.
Красивые глазки были у неё, ясные, мягкие и — не по-детски печальные. Заметив их выражение, я уже не видел грязи на лице и руках девочки.
Над нею, в воздухе, как тучи сажи и пепла, носились крики, ругань, пьяный смех и плач, вокруг неё на грязной земле всё было изломано, исковеркано, и лучи вечернего солнца, окрашивая обломки разбитых ящиков и бочек в красный цвет, придавали им зловещее и странное сходство с остатками какого-то большого организма, разрушенного тяжёлой и суровой рукой нищеты.
Нечаянно я пошевелился — девочка вздрогнула, увидела меня, её глаза подозрительно сузились, и вся она боязливо съёжилась, точно мышонок перед кошкой.
Улыбаясь, я смотрел на её чумазое, печальное и робкое лицо; губы она крепко сжала, и тонкие брови её вздрагивали.
Вот она встала на ноги, деловито отряхнула своё рваное, когда-то розовое платье, сунула в карман свою куклу и звенящим, ясным голосом спросила меня:
— Чего глядишь?
Было ей лет одиннадцать; тоненькая, худая, она внимательно осматривала меня, а брови её всё дрожали.
— Ну? — продолжала она, помолчав. — Чего надо?
— Ничего, играй себе, я уйду… — сказал я.
Тогда она шагнула ко мне, её лицо брезгливо сморщилось, и громко, ясно она сказала:
— Пойдём со мной за пятиалтынный…
Я не сразу понял её, только, помню, вздрогнул в предчувствии чего-то ужасного.
А она подошла вплоть ко мне, прижалась плечом к моему боку и, отвернув лицо своё в сторону от моего взгляда, продолжала говорить тусклым и скучным голосом:
— Ну, идём, что ли… Неохота мне на улице гостя искать… Да и выйти-то не в чем — мамкин любовник и моё платье пропил… Ну, идём…
Молча и тихо я стал отталкивать её от себя, а она взглянула мне в глаза подозрительно-недоумевающим взглядом, губы у неё странно искривились, она подняла голову и, глядя куда-то вверх широко открытыми, ясными, печальными глазками, негромко и скучно проговорила:
— Ты что кобенишься? Думаешь — я маленькая, так кричать буду? Не бойся, это я прежде кричала… а теперь…
И, не окончив свою речь, она равнодушно плюнула…
Я ушёл от неё, унося в своём сердце тяжёлый ужас и печальный взгляд ясных, детских глаз.
А.П. Чехов
Однажды он позвал меня к себе в деревню Кучук-Кой, где у него был маленький клочок земли и белый двухэтажный домик. Там, показывая мне свое «имение», он оживленно заговорил:
— Если бы у меня было много денег, я устроил бы здесь санаторий для больных сельских учителей. Знаете, я выстроил бы этакое светлое здание — очень светлое, с большими окнами и с высокими потолками. У меня была бы прекрасная библиотека, разные музыкальные инструменты, пчельник, огород, фруктовый сад; можно бы читать лекции по агрономии, метеорологии, учителю нужно все знать, батенька, все!
Он вдруг замолчал, кашлянул, посмотрел на меня сбоку и улыбнулся своей мягкой, милой улыбкой, которая всегда так неотразимо влекла к нему и возбуждала особенное, острое внимание к его словам.
— Вам скучно слушать мои фантазии? А я люблю говорить об этом. Если б вы знали, как необходим русской деревне хороший, умный, образованный учитель! У нас в России его необходимо поставить в какие-то особенные условия, и это нужно сделать скорее, если мы понимаем, что без широкого образования народа государство развалится, как дом, сложенный из плохо обожженного кирпича! Учитель должен быть артист, художник, горячо влюбленный в свое дело, а у нас — это чернорабочий, плохо образованный человек, который идет учить ребят в деревню с такой же охотой, с какой пошел бы в ссылку. Он голоден, забит, запуган возможностью потерять кусок хлеба. А нужно, чтобы он был первым человеком в деревне, чтобы он мог ответить мужику на все его вопросы, чтобы мужики признавали в нем силу, достойную внимания и уважения, чтобы никто не смел орать на него… унижать его личность, как это делают у нас все: урядник, богатый лавочник, поп, становой, попечитель школы, старшина и тот чиновник, который носит звание инспектора школ, но заботится не о лучшей постановке образования, а только о тщательном исполнении циркуляров округа. Нелепо же платить гроши человеку, который призван воспитывать народ, — вы понимаете? — воспитывать народ! Нельзя же допускать, чтоб этот человек ходил в лохмотьях, дрожал от холода в сырых, дырявых школах, угорал, простужался, наживал себе к тридцати годам лярингит, ревматизм, туберкулез… ведь это же стыдно нам! Наш учитель восемь, девять месяцев в году живет, как отшельник, ему не с кем сказать слова, он тупеет в одиночестве, без книг, без развлечений. А созовет он к себе товарищей — его обвинят в неблагонадежности, — глупое слово, которым хитрые люди пугают дураков!.. Отвратительно все это… какое-то издевательство над человеком, который делает большую, страшно важную работу. Знаете, — когда я вижу учителя, — мне делается неловко перед ним и за его робость, и за то, что он плохо одет, мне кажется, что в этом убожестве учителя и сам я чем-то виноват… серьезно!
Он замолчал, задумался и, махнув рукой, тихо сказал:
— Такая нелепая, неуклюжая страна — эта наша Россия.
Тень глубокой грусти покрыла его славные глаза, тонкие лучи морщин окружили их, углубляя его взгляд. Он посмотрел вокруг и пошутил над собой:
— Видите — целую передовую статью из либеральной газеты я вам закатил. Пойдемте — чаю дам за то, что вы такой терпеливый…
Это часто бывало у него: говорит так тепло, серьезно, искренно и вдруг усмехнется над собой и над речью своей. И в этой мягкой, грустной усмешке чувствовался тонкий скептицизм человека, знающего цену слов, цену мечтаний. И еще в этой усмешке сквозила милая скромность, чуткая деликатность…
Мы тихонько и молча пошли в дом. Тогда был ясный, жаркий день; играя яркими лучами солнца, шумели волны; под горой ласково повизгивала чем-то довольная собака. Чехов взял меня под руку и, покашливая, медленно проговорил:
— Это стыдно и грустно, а верно: есть множество людей, которые завидуют собакам…
И тотчас же, засмеявшись, добавил:
— Я сегодня говорю все дряхлые слова… значит — старею!
Мне очень часто приходилось слышать от него:
— Тут, знаете, один учитель приехал… больной, женат — у вас нет возможности помочь ему? Пока я его уже устроил…
Или:
— Слушайте, Горький, — тут один учитель хочет познакомиться с вами. Он не выходит, болен. Вы бы сходили к нему — хорошо?
Или:
— Вот учительницы просят прислать книг…
Иногда я заставал у него этого «учителя»: обыкновенно учитель, красный от сознания своей неловкости, сидел на краешке стула и в поте лица подбирал слова, стараясь говорить глаже и «образованнее», или, с развязностью болезненно застенчивого человека, весь сосредоточивался на желании не показаться глупым в глазах писателя и осыпал Антона Павловича градом вопросов, которые едва ли приходили ему в голову до этого момента.
Антон Павлович внимательно слушал нескладную речь; в его грустных глазах поблескивала улыбка, вздрагивали морщинки на висках, и вот своим глубоким, мягким, точно матовым голосом он сам начинал говорить простые, ясные, близкие к жизни слова — слова, которые как-то сразу упрощали собеседника: он переставал стараться быть умником, от чего сразу становился и умнее, и интереснее…
Помню, один учитель — высокий, худой, с желтым, голодным лицом и длинным горбатым носом, меланхолически загнутым к подбородку, — сидел против Антона Павловича и, неподвижно глядя в лицо ему черными глазами, угрюмо басом говорил:
— Из подобных впечатлений бытия на протяжении педагогического сезона образуется такой психический конгломерат, который абсолютно подавляет всякую возможность объективного отношения к окружающему миру. Конечно, мир есть не что иное, как только наше представление о нем…
Тут он пустился в область философии и зашагал по ней, напоминая пьяного на льду.
— А скажите, — негромко и ласково спросил Чехов, — кто это в вашем уезде бьет ребят?
Учитель вскочил со стула и возмущенно замахал руками:
— Что вы! Я? Никогда! Бить?
И обиженно зафыркал.
— Вы не волнуйтесь, — продолжал Антон Павлович, успокоительно улыбаясь, — разве я говорю про вас? Но я помню — читал в газетах — кто-то бьет, именно в вашем уезде…
Учитель сел, вытер вспотевшее лицо и, облегченно вздохнув, глухим басом заговорил: