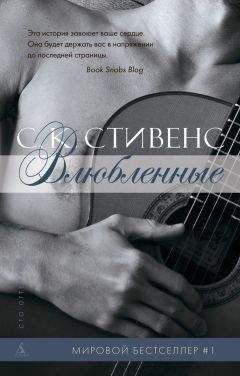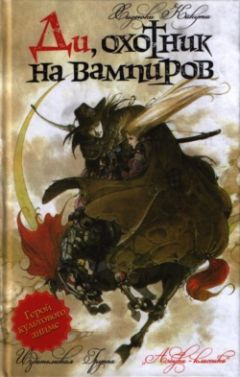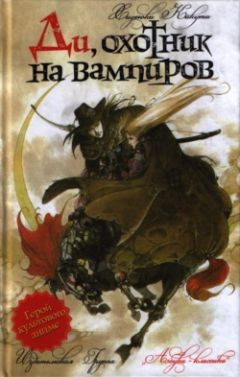Александр Блок - Том 8. Письма 1898-1921
Вам должен сказать, что Ваши статьи в «Софии» (о повестях) мне гораздо больше нравятся, чем книжка стихов. Может быть, это личный мой вкус, но я просто не люблю таких стихов, они для меня, грубо говоря, «непитательны».
Простите за поздний ответ, у меня все это время было очень неспокойно на душе.
Жму Вашу руку.
Александр Блок.
370. В. А. Зоргенфрею. <30 июня 1914. Шахматово>
Дорогой Вильгельм Александрович.
Письмо Ваше почти месяц лежит передо мной, оно так необычно, что я не хочу даже извиняться перед Вами в том, что медлю с ответом. И сейчас не нахожу настоящих слов. Конечно, я не удивляюсь, как Вы пишете, что Вы лечитесь. Во многие леченья, особенно — природные, как солнце, электричество, покой, морская вода, я очень верю; знаю, что, если захотеть, эти силы примут в нас участие. Могущество нервных болезней состоит в том, что они прежде всего действуют на волю и заставляют перестать хотеть излечиться; я бывал на этой границе, но пока что выпадала как раз в ту минуту, когда руки опускались, какая-то счастливая карта; надо полагать, что я втайне даже от себя самого страстно ждал этой счастливой карты.
Часто я думаю: того, чем проникнуто Ваше письмо и стихи, теперь в мире нет. Даже на языке той эры говорить невозможно. Откуда же эта тайная страсть к жизни? Я Вам не хвастаюсь, что она во мне сильна, но и не лгу, потому что только недавно испытал ее действие. Знали мы то, узнать надо и это: жить «по-человечески»; после «ученических годов» — «годы странствий».
Не нравится мне, как я пишу, не умею сказать конкретнее и проще. Этим посильным ответом я просто хочу откликнуться Вам и сказать: «поживем еще».
Крепко жму Вашу руку.
Ваш Ал. Блок.
371. А. Н. Чеботаревской. 9 февраля 1915. <Петроград>
Дорогая Анастасия Николаевна.
Нет у меня желания предпринимать чтение «Розы и Креста». Пьесу эту надо — или играть на сцене, или читать про себя по книге. Никакой середины я не вижу. Вы предлагаете то гобелены, то столы, закрывающие чтецов до подбородка, то Мандельштама, то Игоря Северянина; из всего этого я вижу, как разно мы к этому относимся. Есть во всех делах своя мистика, и отношение к «Розе и Кресту» у меня сложное и, как во всем для меня важном, такое, что я предпочитаю не делать опытов и прятать, пока не найду действительного (или — хоть приблизительного) согласия воль, и вкусов, и темпераментов, и т. д., и т. д. <…>
Да и музыки Базилевского я не знаю, сам судить о ней не могу, а человека, которому я бы поверил относительно музыки к этой пьесе, сейчас около меня нет. По всем этим причинам оставим это дело.
Преданный Вам душевно Ал. Блок.
372. Л. Д. Блок. 19 февраля 1915. <Петроград>
Милая моя, милая. Кроме телеграммы, которую я получил в тот же день, когда послал тебе свою, я получил от тебя два письма: второе — вчера (с оказией, от 14-го).
Ты пишешь, что я должен не беспокоиться. Это ведь только способ выражения — беспокойство. Теперь особенно — все, что я о тебе чувствую, — превышает все беспокойства; т. е. беспокойство достигло предела и перешло уже в другое, в какой-то «огненный покой», что ли. Благодарю тебя, что ты продолжаешь быть со мною, несмотря на свое, несмотря на мое. Мне так нужно это.
Сегодня я собирался написать тебе зараз о студии и о «Зеленом кольце». Только очень уж сегодня все во мне спутано и обострено, не могу писать подробно.
На спектакль студии я пошел, как всегда, с открытой душой, с желанием, чтобы мне понравилось, и мне, как всегда, страшно не понравилось почти, все:… это, все: узорные финтифлюшки вокруг пустынной души, которая и хотела бы любить, но не знает источников истинной любви. Так как нет никакого центра, нет центрального огня, который и есть любовь и воля, — мне и тяжело и скучно от никчемного «легкого веселья», и я не могу простить подробностей, которые простил бы может быть, если бы меня хоть немного «обожгли» тем огнем, в котором всё и без которого ничто не мило. Молодые и пожилые люди претенциозно кривляются: глуповатая хорошенькая мордочка Ильяшенки; инженерша Валентина Петровна послушно валяется по полу. Нотманские ноги мелькают в течение всего вечера, так что тошно от повторяемости мельканий. Бедная угреватая Адда Корвин печально кривляется. Какая-то больная старуха сидит на столе на корточках. Изобретательности настоящей нет, воображение бедное и больное. Жакомино — гений рядом с ними. Один его жест стоит всей студии. Неталантливые люди и некрасивая фантазия. О, если бы люди умели сузиться, поняли, что честное актерское ремесло есть большой чин, а претензии на пересаживанье каких-то графов Гоцци на наш бедный, задумчивый, умный север, РУССКИЙ, — есть только бесчинство. Все это больно, потому что Мейерхольд — славный, и несчастный калека Соловьев — тоже.
В «Зеленом кольце» Мейерхольда вовсе не было, а были Гиппиус, Савина, Домашева и некоторые другие. Актеры сыграли пьесу в четверть ее роста. Пьеса неумелая, с массой недостатков, и все-таки — какого она роста, какой зрелости, даже в руках актеров!
После об этом. Господь с тобой. Милая.
А.
373. М. П. Мурашову. <9 марта 1915. Петроград>
Дорогой Михаил Павлович!
Направляю к вам талантливого крестьянского поэта-самородка. Вам, как крестьянскому писателю, он будет ближе, и вы лучше, чем кто-либо, поймете его.
Ваш А. Блок.
P. S. Я отобрал 6 стихотворений и направил с ними к Сергею Митрофановичу. Посмотрите и сделайте все, что возможно.
374. Н. С. Ашукину. 6 апреля 1915. Петроград
Многоуважаемый Николай Сергеевич.
Очень прошу Вас и Константина Федоровича не делить стихи Григорьева на два тома. Я никогда не боялся толстой книги, скорее люблю такие. Деление будет не только «техническое», оно отразится на существе дела. Разумеется, я не могу этого доказать, но у меня такое чувство, что это будет прекрасная, тяжелая (и внешне пусть тяжелая) книга. Это ведь — вся жизнь его (хоть и не «полное» собрание стихов). Одна книга будет внушительна а две, по-моему, расхолодят; я сказал бы даже, что это может опять повлиять на судьбу его, и после смерти он может остаться тем же неудачником. Григорьев — поэт, по-моему, неделим, как Тютчев (хоть и совсем другой), как Боратынский (разве можно привыкнуть к академическому Боратынскому?). Тютчев Маркса — 44 листа (правда, большой формат). Я ничего не имею против таких книг, как, например, «Опавшие листья» Розанова (почти 34 листа французского формата). Есть и французские книги такие. По-моему, это приятно держать в руках. Уж лучше со временем, когда понадобится второе издание, напечатайте в большем формате. А пока, очень прошу, оставьте один том, уверяю Вас, будет убедительная книга.
Получили ли Вы мою открытку? — Мне необходима рукопись для исправления готовых листов, буде там есть опечатки.
Посылаю Вам пока готовые страницы рукописи: 403–426 и 452–476; это: 1) та часть примечаний, в которой страницы уже размечены; надо обратить внимание на то, чтобы курсивом печатали только подчеркнутое (строки приведены иногда целиком, а слова в них изменены не все); это касается вариантов;
2) приложения, следующие за примечаниями;
3) азбучный указатель, который прошу Вас набрать и прислать мне (с рукописью) в гранках или в верстке (как хотите), — я отмечу страницы.
Остаются у меня: 1) стр. 427–451 примечаний, где я размечу страницы, и 2) содержание, которое я составляю по мере печатанья; его надо будет поместить впереди тома (а указатель — в конце).
Не надо печатать примечания слишком мелко, хорошо бы как текст! Там есть важные вещи, вроде отдельных статеек, на которые мне хотелось бы обратить внимание читателя.
Для «Вестника книгоиздательства» можно взять начало статьи моей (до того места, где идет речь о «частных» причинах неудачничества Григорьева (о Белинском); а продолжить — началом примечаний (я отчеркнул сбоку красным). Если же Вы не боитесь длинной заметки, перепечатайте всю первую главу моей статьи (без последней фразы).
Очень меня тревожит то, что Вы хотите делить книгу. Известите, на каком решении остановитесь. Очень прошу не делить.
С искренним уважением Ал. Блок.
375. В. А. Пясту. 6 апреля 1915. <Петроград>
Милый Владимир Алексеевич.
Не писал я Вам долго потому, что и мне было скверно. Теперь гораздо лучше, и не потому, что что-нибудь изменилось (нет, жизнь все так же запутана и богата), а потому, что набралось опять много дел. В сотый раз приходится с грустью признаться, что приходится прибегать к работе, чтобы вернуть ритм, а других средств пока нет.