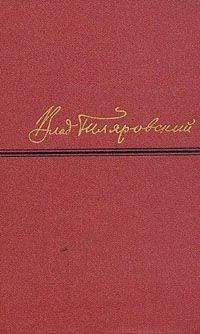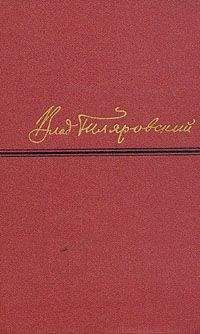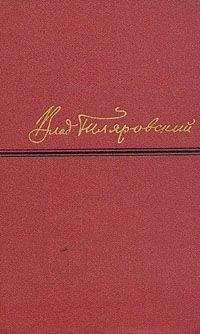Владимир Гиляровский - Сочинения в четырех томах. Том 4
Это был известный потом писатель, литературный юбилей которого не так давно трогательно справлялся в Союзе писателей. Когда мы возвращались уже под утро домой — братья Антон, Иван и я, Телешов и Гиляровский, — нам очень захотелось пить. Уже светало. Кое-где попадались ночные типы, кое-где отпирались лавчонки и извозчичьи трактиры. Когда мы проходили мимо одного из таких трактиров, брат Антон вдруг предложил:
— Господа, давайте зайдем в этот трактир и выпьем чаю!
Мы вошли. Все пятеро, во фраках, мы уселись за неопрятный стол. Трактир только что еще просыпался. Одни извозчики, умывшись, молились богу, другие пили чай, а третьи кольцом окружили нас и стали разглядывать. Гиляровский острил и отпускал словечки. Брат Антон Павлович и Телешов говорили о литературе.
Вдруг один из извозчиков сказал:
— Господа, а безобразят…
Конечно, он был прав, но Гиляровскому захотелось подурачиться, он вскочил с места и пристально вгляделся в лицо извозчика.
— Постой, постой, — сказал он в шутку. — Это, кажется, мы вместе с тобой бежали с каторги?
Что тут произошло! Все извозчики повскакали, всполошились, не знали, что им делать — хватать ли Гиляровского и вести его в участок, доносить ли на своего же брата извозчика, или постараться замять всю эту историю. Но дело вскоре уладилось само собой: Гиляровский сказал какую-то шуточку, угостил извозчиков нюхательным табачком, моралист-извозчик постарался куда-то скрыться, и стали подниматься и мы. Помнит ли об этом Телешов? Впрочем, он так был увлечен разговором с Антоном Павловичем, что, вероятно, не обратил на всю эту сцену никакого внимания.
Н. И. Морозов
ЗНАКОМСТВО С В.А. ГИЛЯРОВСКИМ
Впервые я встретился с писателем Владимиром Алексеевичем Гиляровским зимой 1896 года. Мне было тогда тринадцать лет, я только что окончил церковноприходскую школу в родном селе Карине, близ Зарайска, и приехал в Москву на заработки. Большая нужда заставила мать отпустить меня на чужую сторону в таком возрасте. Но в то время деревня жила бедно, и отхожий промысел детей, а взрослых особенно, был большим подспорьем для хозяйства.
Я мечтал научиться ремеслу и по возможности получить хоть какие-то знания. Тяга к знаниям была у меня от отца, славившегося у нас на селе большой начитанностью. Когда он приезжал из Питера, где служил на скотопригонном дворе, наша изба превращалась в сборище грамотеев. Это были знатоки писания, и споры их велись больше о божественном.
…В Москву меня привез дядя, брат отца. Мы пришли в меблированные комнаты Дипмана на Цветном бульваре. Дядя попросил вызвать сына. Когда появился Николай, доводившийся мне двоюродным братом, я не узнал его с первого взгляда: передо мной стоял не то арап, не то человек, который весь изгваздался в саже. Увидев нас, он улыбнулся, и тогда я узнал его и заметил на его лице три белых пятна: зубы и белки глаз. Оказалось, что он в меблированных комнатах ставит самовары для постояльцев. Дядя мне говорил совсем другое: «Николай работает по самоварной части», я и думал, что он мастер по самоварному делу, чему я и сам не прочь был научиться. Я надеялся встретиться с ним в огромной мастерской, дымной и угарной. А получилось все шиворот-навыворот.
«Вот так работа по самоварной части!..» — отметил я про себя и повесил голову.
Но тут поспел первый самовар. Николай отлил два больших чайника кипятку, заварил в маленький чаю, парнишка вроде меня принес большой каравай ситного, колбасы, и мы с дядей, проголодавшись с дороги, с удовольствием отвели душу за этим угощением.
Неожиданно наше мирное чаепитие было грубо нарушено: в самоварную вошел хозяин Дипман, крючконосый, с сединой в голове и бороде.
— Это кто такие? — свирепым тоном зарычал он.
— Мой отец и брат, — спокойно ответил Николай.
— Пусть они убираются отсюда немедленно, в гостинице быть посторонним не разрешается, сию минуту вон!.. — истерично кричал хозяин.
Такое бесчеловечие меня огорошило. Брат смело возразил хозяину:
— Где же я могу принять теперь родственников, приехавших ко мне из деревни? На скамеечке бульвара, что ли?
В его голосе чувствовалось возмущение. Хозяин ответил тем же тоном:
— Это меня не касается, у меня не дом для странников, — вон, говорю!
Самоварную пришлось оставить, мы ушли с дядей в людскую, там и ночевали тайком. С моим устройством пришлось поспешить, потому что жить было негде. Поговорив кое с кем, дядя сунул меня через несколько дней на работу в трактир Павловского на Трубной площади — за три рубля в месяц мыть чайную посуду.
И вот я на должности. Меня привели в судомойку. Митька, мой старший по работе, напялил на меня хозяйский фартук и повел к громадному медному тазу, наполненному грязными чайными чашками и блюдцами.
— Вот твой рабочий станок, — сказал он. А потом налил в таз горячей воды, насыпал в него соды и научил, что и как надо делать.
Я мою посуду и думаю о деревне. Дядя теперь приехал домой, и был у мамы и рассказал, ставя себе в заслугу, как он устроил меня на работу. «Уж и работа!» — Думаю я про себя, и от этих дум горько на душе.
Моя мечта сбылась. Я в Москве и стал мастером ремесла, на изучение которого потратил не годы и даже не часы, а минуты…
Стою у таза с засученными рукавами, с забрызганным фартуком, как прачка у корыта, и донимаю жесткой щеткой послушные фарфоровые чашки. Из простонародного зала доносятся звуки музыкальной машины:
Хорошо было детинушке
Сыпать ласковы слова…
Слышится пьяный говор, звон посуды, грохот стульев…
Долго, очень долго тянется рабочее время, оно начинается в шесть утра. Сколько раз, бывало, посмотришь на часы, ждешь, когда же стрелка покажет двенадцать. Наконец раздается долгожданный бой часов, и все мы — половые в белых рубахах, посудомойщики, работники ресторанной кухни — сломя голову мчимся в свое подземелье, расположенное под зданием трактирного заведения. Усталость валит с ног. Быстро раздеваемся и бросаемся на постели. Глаза начинают смыкаться, но я слышу сквозь сон разговор:
— В «Славянский базар» попасть бы… Можно было бы в год хозяйство поправить…
— Есть на примете человек… Кумекаю… Может быть, и клюнет…
Засыпаю, не дождавшись конца разговора.
Раз в две недели каждому служащему полагалось уходить со двора. Так назывался тогда выходной день. Отпуск предоставлялся обязательно в воскресенье. Отпросился и я со двора, когда прослужил месяц с лишним. Мне хотелось повидаться с моим товарищем Ваней Угаркиным, с которым мы были из одной деревни. В адресе, привезенном мною в Москву, было сказано, что он служит у В. А. Гиляровского, Столешников переулок, дом де-Карьера, № 5, квартира 10. По этому адресу я и отправился.
Переулок и дом я нашел быстро, поднялся по лестнице, и вот мы встретились с другом. Он рассказал мне о своем житье-бытье:
— Живем хорошо, чувствуем себя как дома… как есть дома. Работу начинаем в десять, кончаем в шесть. В праздник не работаем вовсе.
— А я, брат, трублю восемнадцать часов в сутки: с шести до двенадцати ночи, — отвечаю ему, — а в праздники у нас самая широкая торговля.
На Ваню это не произвело впечатления: у многих тогда рабочий день был по восемнадцати часов. Я спросил его:
— Кто твой хозяин?
— Гиляровский, писатель, — ответил он.
Ответ этот меня удивил. Впервые я услыхал, чтобы кто-то из наших служил у писателя.
— Небось тут книг много, читаешь что-нибудь?
— Мы с кухаркой читаем в «Московском листке» роман Пазухина, ох, уж и интересно… Как один влюбился в красивую-прекрасивую женщину…
— А книги такие есть, где говорится, отчего гром бывает, вокруг чего земля вертится? — перебил я его.
— Наверное, есть. У нас книг — все шкафы и полки забиты. Только мы искали среди них «Сонник», книгу сны отгадывать, такой книги не нашли…
Вдруг в коридоре раздается грохот, хлопанье дверей, слышатся быстрые шаги, удары каблуков о половицы, и вот дверь комнаты, где мы сидели, отбрасывается, будто сорванная с петель, и на пороге появляется человек, которому, казалось, в коридоре узко, в дверях тесно, в комнате мало простора.
Я понял, что это и есть Гиляровский. Оробел от неожиданности. При его появлении я встал, как меня учили. Мне бросилась в глаза лихая повадка писателя и удаль в быстрых движениях. Приковывали внимание его казацкие усы, необыкновенный взгляд — быстрый, сильный и немного строгий, сердитый. Он мне представился атаманом, Тарасом Бульбой, о котором я еще в школе читал в книге Гоголя.
Ворот рубахи у него был расстегнут, могучая, высокая грудь полуоголена. Видно, он зашел к моему товарищу по какому-то делу. Увидев меня, он заинтересовался.