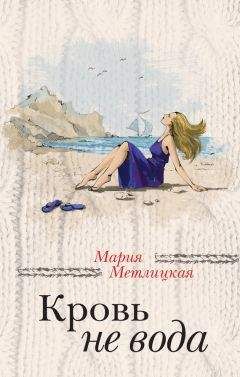Валентин Иванов - Златая цепь времен
Работая в лаборатории, обсерватории, на опытном поле, естественник, следуя строгой дисциплине исследования, может весьма доказательно прийти к самым широким обобщениям, и все же оговаривается: «на уровне современных научных возможностей». Но если бы он и захотел закрыть дверь, ее откроет время.
От историка тоже ждут широких обобщений, и он легче впадает в соблазн выдать гипотезу за аксиому. Историкам приходится куда труднее, чем естественникам. И закрыть дверь им соблазнительнее.
Во-первых, никаких опытов для проверки гипотез они ставить не могут.
Во-вторых, каждый из них в состоянии лично исследовать с возможной для его современности полнотой только один период или историческое явление, и чем более остры будут его научная строгость и сознание ответственности, тем более лет он затратит.
В-третьих, историку приходится судить о всех государственных делах, — экономике, финансах, праве, искусстве, войне и пр., — то есть историку нужно быть энциклопедистом.
В-четвертых, историку следует знать происходившее у других народов в изучаемый им отрезок времени для оценки общего исторического фона и оценки изучаемых событий по уровню эпохи, а не с высоты века, в котором живет сам историк.
В-пятых, историк всегда углубляется лишь в какую-то часть общего процесса, и ему приходится помнить, что как ни объемлющ был его охват, часть остается частью, не превращаясь в целое.
В-шестых, историку должно быть понятно, доступно национальное «нигде», о котором я говорил ранее, иначе он в лучшем случае останется механическим собирателем и систематиком сырого музейного материала, подобно немецким ученым, которых русское правительство нанимало в XVIII веке.
В-седьмых, историк должен смело встречать новые открытия, которые опрокидывают уже установившиеся взгляды, и иметь мужество пересмотреть свои выводы.
В-восьмых, историку необходимо помнить — он не в меньшей, а порой в большей степени, чем другие ученые, служит просветителем своего народа, нации, что его голос может быть услышан всем человечеством, что его труд так же врезается в ход исторического процесса, как уже врезались дела и составителей изучаемых им источников, и тех, о которых эти источники рассказывают. Но могут и солгать…
Можно бы предъявить и дополнительные требования к историкам. Но достаточно и этих восьми, чтоб увидеть, что выполнение даже части из них привело бы к созданию некоего ордена, члены которого, отрешенные от земных соблазнов, взирают на мир и дела его с высот, конечно, немыслимых. Мои восемь пунктов собраны для того, чтобы заранее отвести от наших историков XIX и XX столетий упреки в невежественной скороспелости выводов. Подавляющее большинство из них честно искало правду, бескорыстно следуя освободительным тенденциям и разделяя все более углубляющееся среди просвещенных людей убеждение в том, что самодержавие вредно для России… Все смелые, талантливые ученые оказывались в лагере либералов.
*
Нужно помнить и помнить — прошлое может (или обязано?) объяснить настоящее и тем самым дать хоть какую-то возможность почувствовать будущее.
В прошлом было предостаточно насилия, корысти, беспорядка, угнетения слабейшего сильным. Много недоброго выпукло отмечено в исторических источниках, начиная с древнейших летописей, и в них же дурное было осуждено современниками. Но в тех же летописях встречаются годы с записью: «В лето такое-то ничего не произошло». Не случилось войны, повальных болезней, не было даже небесных знамений — затмений солнца или луны или явленья кометы. А что где-то увеличили запашку, что приросла скотина, что в числе умножался народ — не писалось. Летописец, как и его внук — журналист, нуждались в сенсации, в чем-то на глаз выходящем из ряда.
К изрядному стремится историк. Но как быть с рядом, на который опирается все изрядное, откуда оно и выходит?
Протекавший в тишине, но важнейший для нации ход русских к Уралу и перетекание их через Урал почти совсем не отмечены. Да и на пути к Тихому океану стоят отдельные, вовсе нечастые вешки. Строгановы. Ермак. По мнению одних — хорошие, для других — плохие, для третьих — с одной стороны — такие, с другой — иные.
Одна, две, три семьи перебрались за Волгу, занялись хозяйством на земле — заимали землю, сели заимкой. От первой заимки, по удобству хозяйства, через некоторое время отделилась вторая. Ничего изрядного, все рядовое. Так, образование нации в ее самодеятельном творчестве, ее врастание в землю и ее разрастание не отмечено, да и отметить такое очень трудно. Оно познается по результату: желудь — не дуб, но без желудя не будет дуба.
Москва пошла от заимки.
*
Личный труд, личная добыча средств существования, собственноручное собирание земли, подбирание ее шаг за шагом сохи, плуга, распространение народа посредством движения земледельца, а не посредством поиска чужеплеменных данников — здесь кость, здесь позвоночный столб русской истории. Так была создана российская территория, наше наследство, так образовывались у нас центростремительные силы.
Нельзя сказать, что российская историография совсем этого не понимала. Но, честно трудясь на ниве просвещения и участвуя в борьбе с самодержавием, русские историки, по французской поговорке, «разводили костер любой соломой» — российской историей. Это наша особенность. Французские и английские историки, вне зависимости от политических убеждений каждого из них, не так легко судят действия своей истории с точек зрения нынешнего дня, не так вольно обобщают и морализируют, заменяя обобщениями собирание фактов и познавание их смысла.
В начале нашего века группа этнографов так описывала заселение Приуралья и Урала: «Коренное русское население, обитающее в области (губернии — Вятская, Пермская, Уфимская, Оренбургская), принадлежит к великоруссам и имеет своими родоначальниками предприимчивых новгородцев, искавших, с одной стороны, путей через Великую Пермь в богатую Сибирь, а с другой — постепенно колонизовавших места к югу от своих двинских поселений. Главная волна устремилась после падения Казани. Как и на своей родине, новгородские выходцы должны были селиться среди болот и лесов, однодворными, двух-и много трех-или четырехдворными починками, деревнями…» («Россия» под редакцией В. П. Семенова-Тян-Шанского, т. V, стр. 171).
Именно такие починки я сам видел в тех местах, и не только в них; они сохранились в «глубинках», то есть в некотором удалении от железной дороги, судоходной реки, проезжего «тракта», они жили еще в тридцатых годах устойчивым бытом, вернее — устоявшимся. Старина виделась явно в предметах обихода и не менее явно — в самом распорядке, в отношениях, в рассуждениях. Но была она никак не декоративной, а весьма практичной, рациональной даже и модернизирующей в том смысле, что такая новинка, как сепаратор для молока и все тому подобное, не нуждалась в рекламе. Прочно оставался духовный уклад, по которому русский, не рассчитывая на помощь извне, «долг платил, в долг давал, в воду деньги бросал», — то есть кормил своих стариков, поднимал сыновей и растил дочерей для выдачи их замуж на сторону.
Сейчас как-то странно думать об этом длительнейшем процессе, который строил Россию самобытными действиями людей, на их страх и риск, без организации, без плана и субсидий, словом, без всего, что сегодня кажется неизбежно-необходимым.
Конечно, очень интересно читать о ватаге разбойных казаков, которые по наущенью торгового капитала в лице купца Строганова покорили Сибирь. Но верить такому — наивно.
В конце тридцатых годов в деревушке, усевшейся в березовой западносибирской лесостепи километрах в пятнадцати к югу от железной дороги Петропавловск — Омск, я спросил старших:
— А вы с какого времени здесь живете?
— Окончательно с девятьсот четвертого.
— Как это, окончательно?
— Так, что попервому мы сюда приехали из России в девятисотом году. Людей нет. Дикая птица кричит на озерах, ночь не уснешь. Уехали назад. Но дома уже не показалось. Вот и вернулись сюда окончательно.
В русском поселке, находившемся в нынешней Киргизской ССР, мне рассказывали первоселы, как в самом конце прошлого века они поднялись в России числом в несколько десятков семей и своим ходом, со скотиной, имуществом и крестьянским инвентарем, останавливаясь на зимовки, два года ехали на восток; как вначале ошиблись, считая, по прежней русской мерке, лучшим сесть у леса, чтоб легче построиться, но у леса земля оказалась не так подходящей для хозяйства, и тогда они перешли на теперешнее место.
*
Я уже говорил о свойственных славянам доброжелательности, терпимости, свободе от комплекса неполноценности, выдающейся веротерпимости, свободе от расизма.