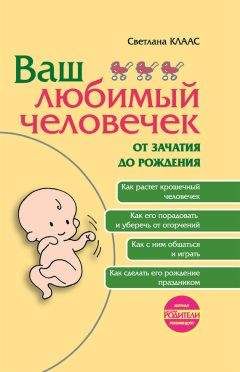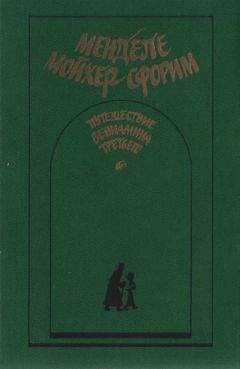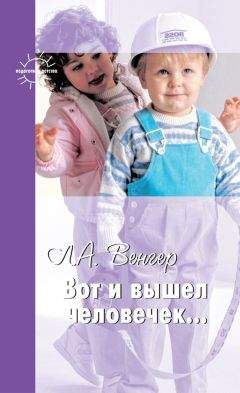Лев Толстой - Том 10. Произведения 1872-1886 гг
Так и теперь, когда ввели Обросима Петрова в кандалах, в одной рубашке распояскою, невольно все, от двух палачей до бояр, все смотрели на него. Обросим, не глядя ни на кого, оглянул горницу, увидал икону и неторопливо положил на себя три раза со лба под грудь и на концы обоих широких плеч пристойное крестное знамение, гибко поклонился в пояс образу, встряхнул длинными мягкими волосами, которые, сами собою загибаясь вокруг красивого лица, легли по сторонам, также низко поклонился боярам, дьяку, палачам, потом Федору Леонтьевичу и, сложив руки перед животом, остановился молча перед боярами, сложив сочные румяные губы в тихое выраженье, похожее на улыбку, не вызывающую, не насмешливую, но кроткую и спокойную. Изогнутый красивый рот с ямочками в углах давал ему всегда против воли это выражение кроткой и спокойной улыбки.
Дьяк прочел ему вопросы, в которых он должен был уличать Федора Леонтьевича. Обросим внимательно выслушал, и когда дьяк кончил, он вздохнул и начал говорить. Еще прежде чем разобрали и поняли бояре, и дьяки, и палач, и Федор Леонтьевич, что он говорил, все уже верили ему и слушали его так, что в застенке слышался только его звучный, извивающийся, певучий и ласковый голос.
— Как перед богом батюшкой, — начал он неторопливо и не останавливаясь, — так и перед вами, судьи-бояре, не утаю ни единого слова, ни единого дела. С богом спорить нельзя. Он правду видит. Спрашиваете, что мне сказывал Федор Леонтьевич восьмого числа августа прошлого года. Было то дело в воскресенье, пришли мы к двору царевниному, он меня позвал и говорит: «Обросим, ты нынче поди, брат».
И Обросим рассказал ясно, просто и живо все, что было делано и говорено.
Ясно было, что всегда и во всем на службе он был передовым человеком, стараясь наилучше исполнять возлагаемые на него поручения, что начальство так и смотрело на него, что он сомневался и представлял начальству сомнения в законности действий, но потом увлекся делом и, как и во всем, что он делал, был последователен и решителен. Точно так же, когда он узнал, что царевна отреклась от них, он решил, что спасения нет, и отдался.
Когда Федор Леонтьевич, поевши, стал противуречить, Обросим посмотрел на него долго и сказал:
— Федор Леонтьевич, что же путать. Ведь дело как в зеркале видно. Разве мы себя справим, что вилять будем. Я говорю, как перед богом, потому знаю, что мой смертный час пришел.
После того, как он все рассказал и Шакловитый сознался во всем и повторил свое уверение написать завтра, когда он опамятуется, все, что он говорил и делал, бояре для подтверждения речей Обросима велели пытать его.
У Обросима дрогнуло лицо, когда он услыхал приказ, и он побледнел, но не сказал ни слова. Он только перекрестился. Он знал вперед, что ему не избежать пытки, но он обдумал уже то, что пытка будет легче, если он скажет всю истину, и на дыбе и под кнутом ему придется повторять только то, что он все уже сказал. Вся длинная речь, такая простая и последовательная, была им загодя внимательно обдумана и приготовлена.
Когда палач стал надевать ему на руки петли, Обросим нагнулся к его уху и проговорил:
— Дядя Филат! Все помирать будем, пожалей.
И оттого ли, что он это сказал, оттого ли, что он был силен на боль, он не издал ни одного звука, стона во время пытки и только повторял то, что все уже им сказано. Когда его сняли, с рубцами на спине и выломанной одной рукой, лицо его было то ж. Так же расходились мягкие волной волоса по обеим сторонам лба, тоже как бы кроткая, спокойная улыбка была на губах, только лицо было серо-бледное и глаза блестели более прежнего.
В то время, как повели Черного на дыбу, к дверям застенка подошел молодой человек в стольничьем дорожном платье и стал что-то на ухо шептать Голицыну. Голицын вскочил и вместе с молодым человеком поспешно вышел из застенка.
Молодой человек был царицы Марфы Матвеевны брат, Андрей Апраксин, ближний стольник царя Петра Алексеевича. Он только что приехал из опасного в то время поручения князя Бориса Алексеича Голицына к двоюродному брату Василию Васильичу. Василий Васильич Голицын, главный заводчик смуты, как все говорили, не ехал к Троице и сидел в своем селе Медведках под Москвой. Князь Борис Алексеич давно разошелся с братом. Они ненавидели друг друга, но дело доходило уже до того, что Голицыну, Василию Васильичу, как говорили Лопухины и Нарышкины, не миновать пытки и казни, и Борис Алексеич хотел спасти род свой от сраму и, хоть не любил брата, хотел спасти его. Но спасти его было трудно. Было опасно послать кого-нибудь с вестью к Василию Васильичу Голицыну. Послать письмо, — могли перехватить и замешать самого Бориса Алексеича в дело враги его — Нарышкины, Лопухины, Долгорукие. Врагов было много у Бориса Алексеича, потому что он был дядька царя, и до сих пор царь Петр Алексеич делал все только по его совету. Послать верного человека, умного, который бы на словах все передал, было некого. Все боялись ехать. На счастье, юноша честный, добрый, Андрей Апраксин, которого особенно любил, ласкал и учил князь Борис Алексеич, сам вызвался поехать. Андрей Апраксин знал, что это было опасно, но он был обязан князю Василию Васильичу, и мысль, что он делает опасное дело только потому, что он не так, как другие, в опасности бросает друга, радовало его, как вообще радует молодых людей мысль о том, что они делают хорошее и трудное дело, которое не всякий бы сделал. Он был у Василия Васильича в Медведках и передал ему слова Бориса Алексеича, что одно средство спастись — это приехать самому и скорее, покуда не велят взять силой, в Лавру. И, несмотря на то, что князь Василий Васильич не соглашался, Андрею Апраксину удалось уговорить его, и теперь Апраксин только что приехал в Лавру вместе с князем Васильем Васильичем и прибежал сказать Борису Алексеичу, что князь Василий Васильич уже подъезжает к воротам Лавры.
— Вот, довел-таки, — думал Борис Алексеевич про своего родню Василья Васильича, — довел до того, что и не выпростаешь его. Ведь посылал я ему три раза, чтоб ехал. Тогда бы приехал, остался бы первым человеком, а теперь с какими глазами я скажу царю, что он не виноват, когда Федька (после пытки Борис Алексеич в первый раз сам для себя назвал Шакловитого уже не Федором Леонтьевичем, а Федькою), когда Федька прямо сказал, что он знал про все и говорил стрельцам: «Что ж не уходили царицу». — Ах, народ! — проговорил Борис Алексеевич, крякнув, и остановился, задумавшись. Он вспомнил живо братца своего Василья Васильича, вспомнил, как передавали ему люди, что Василий Васильич называл его не иначе, как пьяницей, вспомнил, как с молодых ногтей они с ним равнялись в жизни и как во всем в жизни Василий Васильич был счастливее его: и на службе, и в милости царей, и в женитьбе — красавицу жену его, Авдотью Ивановну, он вспомнил — и в детях. У Василья Васильича была жена, дети. Он еще при царе Федоре Алексеиче был первым человеком, а теперь семь лет прямо царствовал, с тех пор как связался с царевной. А у него, Бориса Алексеевича, ничего не было: жена померла, детей не было, и во всей службе своей, что ж он выслужил? Кравчего, да две вотчины в четыреста дворов, да и тех ему не нужно было. В нем проснулось чувство той сопернической злобы, которая бывает только между родными.
— Так нет же, вот он погубить меня хотел, а я спасу его, — сказал себе Борис Алексеевич и быстрыми шагами, не видя никого и ничего, пошел, куда надо было.
Как это бывает в минуты волнения, ноги сами вели его туда, куда надо было, в царские хоромы. Борис Алексеич уже целый месяц был в том натянутом положении, в каком находится лошадь, когда тяжелый воз, в который она запряжена, разогнался под крутую гору. Только поспевай, убирай ноги. И старая ленивая лошадь летит, поджав уши и подняв хвост, точно молодой и горячий конь. То же было с Борисом Алексеевичем. Царица больше всех, больше, чем брату родному, верила ему, царь Петр Алексеевич слушался его во всем. И так с первого шага 7 августа из Преображенского, когда уехали все в Троицу, все делалось приказами Бориса Алексеевича. И что дальше шло время, то труднее, сложнее представлялись вопросы и, чего сам за собой не знал Борис Алексеевич (как и никогда ни один человек не знает, на что он способен и не способен), ни одна трудность не останавливала его, и, к удивлению и радости и ужасу своему, в начале сентября он чувствовал, что в нем сосредоточивалась вся сила той борьбы, которая велась между Троицей и Москвою.
Труд не тяготил его: его поддерживала любовь к своему воспитаннику Петру, на которого он любовался и любил, не как отец сына, но как нянька любит воспитанника, и дружба с царицей Натальей Кириловной, которая любила Бориса Алексеевича и покорялась ему во всем и любовь которой, слишком простая и откровенная, стесняла иногда Бориса Алексеевича. Одно стесняло Бориса Алексеевича, это то, что ему надо было пить меньше, чем обыкновенно. Хотя он и был один из тех питухов, которые никогда не валятся с вина и про которых сложена поговорка: пьян, да умен — два угодья в нем, — он знал ту степень трезвости, когда он был вял и нерешителен, и знал ту степень пьянства, когда он становился слишком добр, а этого нельзя было, и он старался пить все это время меньше, чем сколько ему хотелось.