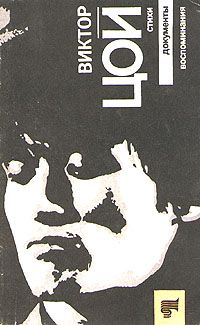Николай Брешко-Брешковский - Ремесло сатаны
На площадке Юнгшиллер дал спутнику своему ключ.
– Откройте, у меня дрожат руки…
Он весь дрожал, полный, обычно румяный, теперь бледный, с трясущимся подбородком.
Урош открыл верь. В передней тихо… На вешалке одинокое офицерское пальто.
– Это ничего, – утешал себя Юнгшиллер, – это ничего… Он уехал; жена с прислугой на даче… Ну, скорее же, скорее в кабинет! Сюда!..
Кабинет полковника Тамбовцева, как и вся квартира, был скромный, небольшой кабинет петербургского труженика. В продолговатой комнате – ничего лишнего. Письменный стол, кресло, диван, какие-то гравюры на стенах.
Юнгщиллер не без колебания заглянул в соседнюю дверь. Столовая. Узенькая, небольшая, подобно кабинету. Квадратный стол, покрытый клеенкой.
– Ключ с вами? Начинайте же, начинайте, копаетесь! – нервничал Юнгшиллер.
Урош вынул из кармана связку самых, «разномастных» ключей.
– С какого ящика начинать?
– Со среднего. Не спрашивайте, делайте!
В глубине квартиры зазвенел телефон. Вздрогнувший Юнгшиллер, закусив губы, с выпученными глазами, прислушался. Телефон подребезжал-подребезжал и умолк.
– Ну, конечно, пусть, никого же нет! – вздохнул с облегчением «рыцарь круглой башни».
– В среднем ящике ничего. Видите, какие-то фотографии, старые серебряные монеты в коробочке.
– Что вы мне перечисляете? Нет, ищите в других! Да скорей же, скорей, черт возьми.
Урош открыл левый ящик. Там лежало несколько больших, пухлых конвертов. И, о счастье! На, первом же, самом верхнем, выведено крупным писарским почерком: «Дело Юнгшиллера».
– Давайте, давайте, его сюда, – жадно схватил король портных заповедный конверт.
Сгоряча он не заметил, как Урош тронул пуговку лежавшего у чернильницы звонка. И лишь сухое дребезжание, где-то замершее, вспугнуло Юнгшиллера.
– Это что такое? На парадной? Я же сказал швейцару…
И он заметался, не зная, куда бежать, скрыться.
Шаги. Много шагов. Ближе и ближе. Распахнулись обе половинки дверей из столовой, и круглыми обезумевшими глазами увидел Юнгшилдер полковника Тамбовцева, двух офицеров и двух штатских, плечистых и рослых, самого решительного вида.
Тамбовцев иронически поклонился.
– Здравия желаю, господин Юнгщиллер. Благодаря вашей любознательности, которая вас привела в мой кабинет, я могу вас арестовать целыми двумя днями раньше, чем это предполагалось.
Ошеломленный «рыцарь круглой башни» выронил конверт и тотчас же машинально хотел поднять его, теперь все равно такой ненужный и лишний.
– Не трудитесь понапрасну, там ничего нет, ничего, – кроме газетной бумаги.
Юнгшиллера вот-вот хватит столбняк. И все прыгало и путалось у него в голове. И он остался полусогбенный, с вытаращенными глазами, раскрытым ртом. Но сквозь хаос пьяных, пляшущих мыслей он понял, что виновник западни – Урош. И в бешенстве ринулся он всей своей тяжелой громадной тушею на тоненького худенького человека без костей.
Штатские решительного вида кинулись было на выручку, но Урош остановил их, спокойно подстерегая глазами-буравчиками нападение.
– Не вмешивайтесь, господа, я и сам справлюсь.
И действительно, спружиниваюсь и стойко выдержав натиск разъяренного медведя, Урош цепко схватил его за обе руки, сжал и сильным коротким движением дернул вниз, как бы ломая Юнгшиллеру оба запястья. Король портных волей-неволей должен был упасть на колени. Урош отпустил его.
– Встань!
Юнгшиллер, утративший волю, продолжая чувствовать страшные тиски маленьких, почти женских пальцев Уроша, повиновался.
Минуту-другую стоял он, опустив голову, тяжело дыша. Потом заговорил:
– Кончено! Я проиграл, но вместе со мною, господин полковник, вы должны арестовать и вот этого самого господинчика. Я платил ему деньги за шпионаж в пользу Австрии и Германии и в этом имеется его расписка.
– Ошибаетесь, господин Юнгшиллер. Урош и даже не – Урош, я теперь могу раскрыть его псевдоним, Остоич, водил вас за нос. Он, славянин душою и телом, не мог быть заодно с вами! Вспомните, потопление вашей моторной лодки с планами и чертежами «истребителей». Вспомните освобождение. Забугиной, которую вы хотели подальше упрятать, вспомните голубиную почту, которой наш верный Остоич так искусно морочил ваших друзей, с нетерпением ожидавших «последних новостей» из Петербурга.
– Так вот как! Вот как… – словно в забытьи повторял Юнгшиллер.
– А ты думал как? – спросил Остоич. – Ты думал, что я буду работать вместе с тобою, подлый паук, отъедавшийся здесь, разбогатевший и предававший тех, на чьем хлебе ты вырос?..
Юнгшиллер ничего не слышал, кидая головою, подобно чудовищной механической кукле.
Тамбовцев мигнул обоим штатским. Они подошли к Юнгшиллеру, взяв его под руки. Он не шевельнулся, едва ли сознавая, что с ним и кто с ним.
– Господа, отвезите его. Да, надо вызвать по телефону казенный мотор.
– Зачем, – возразил Остоич, – внизу ожидает господина Юнгшиллера его собственный автомобиль.
– А, тем лучше…
19. Наконец-то
На Шестнадцатой линии Васильевского острова, у Малого проспекта, жила в старом каменном доме вдова чиновника Мария Тихоновна. Жила тем, что сдавала комнаты, имея приходящих нахлебников.
И жильцов и нахлебников Мария Тихоновна, сама жарившаяся целыми днями у плиты, кормила на убой, – все свежее, сытное, вкусное. Вряд ли эта почтенная полная женщина имела какую-нибудь корысть, ибо аккуратными, плательщиками Господь Бог ее вовсе обидел. И если б не вдовья пенсия, сводить концы с концами было бы трудно.
Жили у Марии Тихоновны главным образом юные художники-академисты, богатые надеждами и бедные кошельком. Они расплачивались этюдами гораздо охотнее, чем кредитными бумажками. Вот почему увешаны были все стены у Марии Тихоновны этюдами будущих Рафаэлей, Брюлловых, Семирадских и Репиных.
Являлся случайный покупатель, – Мария Тихоновна продавала охотно работы своих бывших жильцов и нахлебников. Иногда средь этой посредственной ученической живописи, а то и совсем тусклой мазни попадались ярко талантливые вещи.
Вот на какой почве, на любительской, познакомилась вдова коллежского асессора Мария Тихоновна Черепкова с тайным советником и «персоною» Леонидом Евгеньевичем Арканцевым.
Леонид Евгеньевич купил у нее два этюда умершего, – спился и сгорел, – пейзажиста Ульянина. В тот же день Арканцев забыл о существовании полной женщины с немолодым, но в таких добродушных морщинах лицом. Но когда настало время допросить Забугину и Вовка опять был командирован за нею в штаб дивизии генерала Столешникова, возник вопрос: где «спрятать» Веру Клавдиевну до поры до времени? Леонид Евгеньевич вспомнил про вдову коллежского асессора. Вспомнил ее квартиру.
Деревянная лесенка чуть ли не прямо из столовой поднималась в уютную мансарду, если и не с верхним, то, во всяком случае, с косым светом. Большое окно было расположено под углом вместе с наружной стеною. Эта неправильность и сообщала какой-то артистический уют большой, увешанной этюдами комнате, с широким турецким диваном.
– Там до того тихо, уединенно и такой мягкий, ровный свет, что она успокоит свои нервы, – сказал Леонид Евгеньевич Вовке.
И вот почему прямо с вокзала помчал «ассириец» Веру Клавдиевну в закрытом автомобиле на Шестнадцатую линию.
Дав Забугиной отдохнуть, устроиться, Леонид Евгеньевич на другой день заглянул в мансарду и пробыл там часа два в беседе с Верою.
Уходя, сказал, напоследок:
– Мой вам совет, Вера Клавдиевна, – недолго, неделю всего, потерпеть надо… Никуда не показываться, не выходить… Для вашей же личной безопасности. Все эти дни будут у вашего подъезда дежурить опытные агенты. Если у вас есть какое-нибудь желание, просьба, поручение – скажите: все будет сделано…
– Я хотела бы навестить короля Кипрского… Он стар, хворает, одинок… Так хотелось бы его проведать, – утешить…
– Подождите несколько дней. Ваше появление в этих меблированных комнатах будет донесено куда следует, и мы раньше времени вспугнем этих господ… Что же касается короля Кипрского, Криволуцкий сегодня же съездит к нему, скажет о вас, что вы целы, невредимы, горячо желаете его видеть, и о результатах сообщит вам, не по телефону, – здесь нет телефона, – заедет лично…
Беседа с Арканцевым относительно успокоила Веру. Она узнала от сановника, что по наведенным справкам, Загорский здоров, без особенного труда и лишений переносит свой плен в старом венгерском замке под Вейскирхеном.
В тихих, спокойных сумерках мансарды с глядевшими со стен этюдами казалось Вере, что Дмитрий, такой бесконечно далекий, никогда не вернется и она никогда его не увидит… И она горячо, вся в слезах, вся – один порыв, молилась, прося у Бога чуда, прося невозможного…
Невозможного… Этот Вейскирхен, о котором она никогда не слыхала и который вырос для нее теперь во что-то грязное, пугающее, мнился где-то в таких недостижимых далях, чуть ли не на краю света…