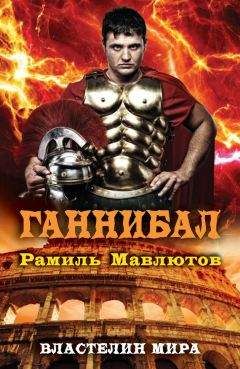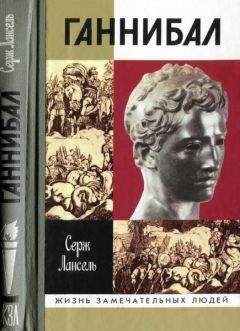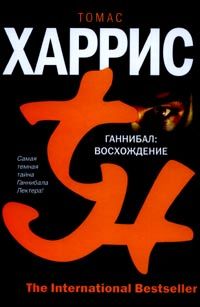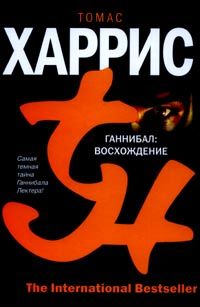Зинаида Гиппиус - Том 4. Лунные муравьи
Иван Павлович старался гнать от себя эти «мечтания». Теперь, когда у Сережи собирались, даже уходил из дому, нарочно. Да теперь редко собирались.
«Нет, спрошу, наконец, – думал Иван Павлович, возвращаясь вечером домой. – Что ж это, точно нас разделило вдруг… Это неестественно».
Сережа встретил его в передней.
– Сережа, – начал Иван Павлович, – я хотел сказать…
– Нет, папа, это я хотел, постой, подожди! Сейчас вот Лелечка Бер приходила, она так же… я тебя ждал… – торопился Сережа, идя за отцом в столовую. – Я тебе в двух словах. Ты должен понять…
Иван Павлович опустился в кресло.
– Папа, мы раскололись, – продолжал Сережа. – То есть несколько человек из нас откололись. Вошли в сношения с другими, ну, и с теми, с кем нужно, по делу, по нашему. Они – «да, да, конечно, это легко устроить». Но – точно издалека! давно вижу, просто обманывают. Для чего? Какая цель? Я, наконец, потребовал, чтобы нам прямо ответили: да или нет? Если нет – почему? Мы же ничего не скрывали – испытывать они нас, что ли, хотят? Подождите, мол, годик, и здесь вам дело найдется… Какое? Мне все это, папа, отвратительно. И какая они Россия? Я им так и сказал. Даже сказал, что Россию от нас они не запрут, захотим – и без них обойдемся.
В волнении Сережа бегал по комнате, глотая слова. Иван Павлович прервал его, сказав твердо:
– Нет, Сережа. Ехать «без них», это – другой разговор. Ты свободен, конечно, но я требую, – слышишь? требую, чтоб ты не в возбуждении чувств действовал. Чтобы ты своим маленьким опытом… ну, не о России, а насчет России, воспользовался, серьезно-серьезно над ним подумал. Понял бы хоть кое-что по-настоящему.
Сережа утих. Остановился, постоял, молча. Потом подошел, присел на ручку кресла и, по детской, мальчишеской привычке, прислонился головой к виску Ивана Павловича.
Отец тихонько погладил его по руке.
– Знаю, милый, знаю. Ты хороший у меня человек. И другие, друзья твои… А Россия – она от вас не уйдет… живая Россия.
[1936]
Пьесы
Святая кровь*
(До поднятия занавеса слышен далекий и редкий звон колокола. Лесная глушь. Гладкое, плоское, светлое озеро, не очень большое. У правого берега, поросшего камышом, поляна, дальше начинается темный лес. На небе, довольно низко, но освещая тусклым, немного красноватым светом озеро и поляну, стоит ущербный месяц. Рой русалок, бледных, мутных, голых, держась за руки, кругом движется по поляне, очень медленно. Напев их тоже медленный, ровный, но не печальный. Он заглушает колокол, который звонит все время, но когда русалки умолкают на несколько мгновений – он гораздо слышнее. Не все русалки пляшут: иные, постарше, сидят у берега, опустив ноги в воду, другие пробираются между камышами. У края поляны, около самого леса, под большим деревом, сидит старая, довольно толстая русалка и деловито и медленно расчесывает волосы. Рядом с нею русалка совсем молоденькая, почти ребенок. Она сидит неподвижно, охватив тонкими руками голые колени, смотрит на поляну, не отрывая взора, и все время точно прислушивается. Час очень поздний. Но тонкий месяц не закатывается, а подымается. По воде стелется, как живой, туман.)
Старая русалка (вздыхая). Запутаешь, запутаешь волосы-то в омуте, потом и не расчешешь. (Помолчав, к молоденькой.) А ты чего сидишь, не пляшешь? Поди, порезвись с другими.
(Русалочка молчит и смотрит на поляну, не двигаясь.)
Старая русалка (равнодушно). Опять закостенела! И что это за ребенок! Ее и месяц точно не греет.
(Продолжает расчесывать волосы. Слышно тихое и медленное, в такт мерным, скользящим движениям, пение русалок.)
Русалки.
Мы белые дочери
озера светлого,
от чистоты и прохлады мы родились.
Пена, и тина, и травы нас нежат,
легкий, пустой камыш ласкает;
зимой подо льдом, как под теплым стеклом,
мы спим, и нам снится лето.
Все благо: и жизнь! и явь! и сон!
(Пение прерывается, движение круга на мгновенье безмолвно, неускоренное и незамедленное. Колокол слышнее.)
Мы солнца смертельно-горячего
не знаем, не видели;
но мы знаем его отражения,
мы тихую знаем луну.
Влажная, кроткая, милая, чистая,
ночью серебряной вся золотистая,
она – как русалка – добрая…
Все благо: и жизнь! и мы! и луна!
(Опять движение круга безмолвно несколько мгновений. Звучит колокол.)
У берега, меж камышами,
скользит и тает бледный туман.
Мы ведаем: лето сменится зимою,
зима – весною много раз,
и час наступит сокровенный,
как все часы – благословенный,
когда мы в белый туман растаем,
и белый туман растает.
И новые будут русалки,
и будет луна им светить, –
и так же с туманом они растают.
Все благо: и жизнь! и мы! и свет!
и смерть!
Старая русалка (приглаживая гребнем тщательно расчесанные редкие волосы). Что ж, так и не пойдешь песни играть? Иди. А то месяц нынче поздний. Рассветать начнет.
Русалочка (не отводя взора). Не хочется мне, тетушка. Песня такая скучная.
Старая русалка (недовольно). Ну вот, скучная! Хорошая песня. Каких же тебе еще?
Русалочка. Я вот что хотела тебя спросить, тетушка: говорится в наших песнях, что живем мы, на луну смотрим, а потом в туман растаем, и как будто русалки не было. Отчего это?
Старая русалка. Чего отчего? Час для каждой приходит, ну и таем. У нас век легкий, долгий: и по триста лет живем, и по четыреста.
Русалочка. А потом и в туман?
Старая русалка. И в туман.
Русалочка. Дальше ничего?
Старая русалка. Ничего. Чего же тебе еще?
Русалочка (после раздумья). Все живые твари так, тетушка?
Старая русалка (с убеждением). Все. (Молчание.) Нет, постой, забыла. Не все. Я еще от своей тетки слыхала, что не все. Люди есть. Я видела их. Да и ты видела, издали. Так вот они, говорят, не туманом разлетаются. У них бессмертная душа.
Русалочка (широко открывая глаза). Они никогда не умирают?
Старая русалка. Нет, нет! Умирают. И век у них – страх какой короткий, ста лет не живут. Тело в землю распадается, но им это все равно, потому что у человека душа без смерти, ну и живет. Я думаю, человеку после его смерти даже лучше, легче. Тела у них плотные, кровяные, тяжелые.
Русалочка. А душа – легкая, как мы?
Старая русалка. Ну, пожалуй, легче. На нас все-таки смерть есть, а на нее нет.
Русалочка (после молчания, внезапно, с мольбою). Тетушка! Милая! Расскажи ты мне все, что знаешь о нас, о людях, об их душе! Ты знаешь, ты старая, а я недавно родилась. Может, так и в туман растаю, и не узнаю, а хочется знать!
Старая русалка (с удивлением). Вот так ребенок! Чего ты? Я расскажу. Дай только припомнить. Давно очень слышала. (Останавливается. Русалочка обернулась к ней и смотрит ей в лицо так же пристально, как раньше смотрела на луг.) Я, деточка, много не знаю. Вот, слыхала, что и прежде, давно, всегда были на свете и люди, и разные другие живые твари, и русалки, и разные. Люди – с тяжелым телом, с кровью, с коротким веком и со смертью, а мы, русалки, и другие водяные и лесные, луговые и пустынные твари – с легким и бессмертным телом.
Русалочка. Бессмертным телом? А у людей была бессмертная душа?
Старая русалка. Нет, погоди, не путай. У людей тогда не было бессмертной души. И вот так время проходило. Люди знали, что мы одни бессмертные, и почитали, и смирялись перед нами. Но жить им было, с их коротким веком да со смертью, очень нехорошо, и они только показывали нам, что смиряются, а потихоньку роптали и другое думали. Тогда меж ними родился Человек, которого они назвали Богом, и Он пролил за них свою кровь и дал им бессмертную душу.
Русалочка. Кровь?
Старая русалка. Да, свою кровь.
Русалочка. За них? За всех?
Старая русалка. Ну да, за всех людей. Но с тех пор мы узнали, что мы не бессмертны, и стали мы умирать. Век наш долог, смерть наша легка, а души, для бессмертия, у нас нет.
Русалочка. Значит, Он, этот Человек, или, как ты сказала, Бог, – принес нам смерть, а им жизнь? Почему же нам смерть от Его крови?
Старая русалка. Кровь за кровь. У нас нет крови.
Русалочка. Тетушка! Люди добрее нас, они лучше живет?