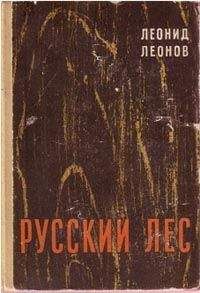Валентина Колесникова - Гонимые и неизгнанные
Лицо побледнело, загорелись недобрым огоньком глаза, движения стали порывистыми.
Указал перстом на корону, резко повернулся и зашагал по залу, повторяя хриплым, угрожающим голосом:
- Дурацкий, простецкий колпак!
Депутат всероссийской республики, исповедовавший декларацию прав человека, не выносил эмблем сословных преимуществ, а корону поместили на его собственных сочинениях.
К счастью, мать нашлась и тут. Она подошла смело к рассерженному безумцу и остановила, взяв его за рукав, бесконечное хождение.
- Успокойтесь, Николай Сергеевич, виноват во всем переплетчик. Я прикажу переделать.
Это произвело свое действие, конечно, благодаря влиянию матери.
- Прикажите.
И в голосе послышались нежность и просьба.
И опять уже в мирном настроении Н.С. зашагал взад и вперед по залу, повторяя свой любимый афоризм:
- Обман чувств, обман зрения от человеческого размышления.
Эта замечательная фраза употреблялась в самых различных случаях. Но иногда являлась настоящей скинией духа, под сень которой можно уйти от пошлой и несправедливой действительности.
Все обман, что не соответствует призрачному миру, созданному безумным порывом переделать по-своему всю русскую жизнь...
"Сочинения" не посылали вновь в Тулу, а обошлись домашними средствами. Нашелся тисненный на бумаге букетик роз, и залепили им дворянскую корону.
Н.С. удовлетворился вполне и во время своих прогулок по анфиладе парадных комнат подходил иногда к книжному шкапу, отворял, доставал том своих увражей и, перелистав несколько страниц, благоговейно ставил на полку обратно...
Большой грех взяли на душу мои старший брат и сестра, оба с литературным дарованием и печатавшиеся, а теперь уже покоящиеся в могилах, что не оставили воспоминаний о Н.С. Бобрищеве-Пушкине. У них было больше впечатлений и более осмысленных, чем у меня, видавшего безумного декабриста ребенком. По словам покойного брата, Николай Сергеевич совершенно ничего не знал о переменах в русской государственной и общественной жизни за время царствования Николая I и Александра II. Не знал, а по логике безумия и не хотел знать. Он сохранился целиком, как верил и чувствовал поручиком 2-й армии, когда примкнул к Южному обществу, поклялся в верности делу освобождения России и всей душою отдался Пестелю, который, кажется, и посвятил его в тайну заговора. Все, что возбудило в нем горячий протест и жажду борьбы с неправдой, пылкие речи на заседаниях тайного общества, увлекательные мечты о преобразовании России и действительность в образе Аракчеева, все это сохранила память свежо и ярко, а долгие годы ссылки и доживание жизни в усадьбе были стертыми страницами русской истории, с которыми Н.С. не хотел считаться. Он остался в неприкосновенности идеалистом-мечтателем, республиканцем.
Меня занимал вопрос, как относился Н.С. к освобождению крестьян. Для него, по-видимому, 1861 год не существовал вовсе, и он мысленно жил в старой крепостной России. Много способствовала этому окружающая обстановка. В усадьбе, да и в отношениях помещика к крестьянам с внешней стороны не изменилось почти ничего. Я говорю, конечно, о помещиках, оставшихся жить в имениях. У нас, например, почти до начала 80-х годов жила в усадьбе вся прежняя дворня с её многочисленным поколением. Каждое семейство по-прежнему получало месячину мукой, солью, маслом и проч. и пользовалось молоком от коровы из барского стада. Обедать и ужинать дворня садилась за общий стол в особом флигеле, называвшемся людской. Жалованье получали лишь те из дворовых, которые находились на службе, а месячину все.
Деваться дворне было некуда, и она была благодарна помещику, если он её не гнал. Понятно, что все обычаи крепостного права, холопское унижение и раболепство сохранились вполне, и в усадьбе все обстояло по-прежнему. Отношения помещиков к крестьянам тоже складывались первое время на патриархальных началах. Моя мать, например, вошла с оброчными крестьянами в договор по испольному хозяйству. Крестьяне работали по-прежнему на барыню, отдавая половину урожая. В экономическом отношении здесь была существенная разница, в бытовом почти никакой. Крестьяне при встрече снимали шапки и низко кланялись. В первый день Пасхи шли гурьбой христосоваться с матерью. Разрешение на брак, конечно, не испрашивалось, но новобрачные приходили по-прежнему на поклон, получали подарки, и мать должна была пригубить стакан с вином и объявить несколько раз "Горько", что заставляло молодых целоваться. После уборки сена и с первым снопом собирались на двор женщины и девушки, пели, водили хороводы, были угощаемы водкой, едой и сластями. Потом приходили и мужики. Даже бургомистр остался, в сущности, в лице старосты, отвечавшего за правильность выполнения договора, и я помню его красное, потное лицо, волосы, смоченные квасом, неизменные бирки, на которых отмечались копны, слащаво-плутоватый голос и долгое стояние в прихожей.
В усадьбе Бобрищева-Пушкина также, по крайней мере первое время, сохранились патриархальные порядки, и Н.С. окружала иллюзия крепостных обычаев. Так что остается вопрос лишь о сочувствии освобождению крестьян. Южное общество, как известно, в своей программе требовало уравнения прав всех сословий, но вполне возможно, что некоторые члены общества сохранили в душе аристократическую обособленность и не считали освободительную реформу самой важной. Н.С. был республиканцем и ненавидел эмблемы власти и сословных привилегий, но, как кажется, в бытность свою офицером и заговорщиком, мало думал о положении крестьян, а с начала безумия и вовсе отдался во власть призраков.
Может быть, в нем сохранилась значительная доля аристократического презрения к мужику, и его рабское состояние не казалось вопиющим злом. Говорю об этом потому, что брат передавал мне ответ Н.С. на вопрос о крестьянах:
- Что же, и в римской республике были рабы.
Возможно, что он просто хотел отделаться от назойливых расспрашиваний и отрезал сплеча.
Впрочем, в таком смешении республиканства с крепостничеством не было ничего невероятного.
Многие помещики XIX века были "вольтерьянцами", т. е. исповедовали весьма либеральные идеи и резко осуждали современный политический строй России, что не мешало, однако, вольнодумцам проживать безмятежно в усадьбе, пользуясь даровым крестьянским трудом, и даже отечески наказывать провинившихся дворовых или же проматывать доходы с имений в столицах и чужих странах, отдавая деревню во власть управляющих и бургомистров, ещё более тяжелую, чем власть помещиков.
Меня могут упрекнуть за то, что я слишком серьезно отношусь к словам и выходкам безумного декабриста, но ведь безумие его было особого рода. Это был единственный из участников 14 декабря, сохранивший в неприкосновенности все взгляды и убеждения члена Южного общества и образованного дворянина 20-х годов. Это был осколок старины, на котором целое полстолетие не оставило никакого следа, и внимательный наблюдатель мог бы почерпнуть из проблесков разума безумца многое весьма интересное и важное для характеристики этих людей прошлого, создавших роковой момент в истории России и повлиявших на её дальнейшую судьбу. Но такого наблюдателя не было. Был просто любопытный ребенок, сохранивший к зрелому возрасту обрывки воспоминаний.
И я закончу очерк свой сценой буйных припадков Н.С., оставившей в моей памяти неизгладимое впечатление.
Обыкновенно, когда замечали слишком взволнованное состояние декабриста, ему советовали ехать домой, и на слова матери: "Поезжайте, отдохните, вы не совсем здоровы" - он как-то виновато улыбался и покорно отправлялся домой, где иногда впадал в исступление, сдерживаемое силой воли в присутствии чужих людей.
Сумасшедшие часто знают об ужасе и безобразии своих припадков и в минуты покоя и просветления стыдятся своей болезни, тщательно скрывают её.
Но случилось раз, что Н.С. не выдержал, будучи у нас в гостях. В этом всецело был виноват письмоводитель моего отца. Человек толстый, недалекий, жизнерадостный и, в сущности, добрый, он по примеру многих любил позабавиться над сумасшедшими и подразнить их. Ему это грустное развлечение строго воспрещали, но не всегда удавалось уследить. Он воспользовался каким-то случаем, когда отец и мать были заняты, и сошел в зал, где в одном направлении гордо расхаживал Н.С., а в противоположном семенил ножками мой безумный дядя.
С жестокой изобретательностью здорового, жирного глупца он начал стравливать сумасшедших. Декабрист понял издевательство, но старался сдержаться, показывая по обыкновению, что он понимает жалкое положение дяди, и даже потрепал по плечу товарища своего по безумию. Но тот почему-то озлился и заворчал. А письмоводитель в то же время стал дразнить сумасшедшего республиканца словами, которых тот не переносил. Н.С. метался, как раненый зверь, и, кажется, искал свою "походную церковь". Но письмоводитель заступил ему дорогу и сказал что-то об его чувствах к матери.