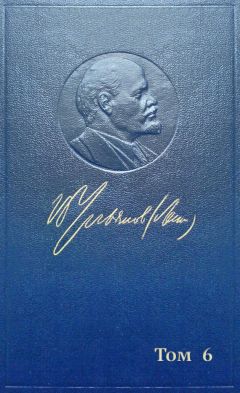Николай Лесков - Том 3
Поэт, советуя «мудрецу» не упорствовать и не изнурять себя науками, пел:
Не жди, не мучься, не греши;
С мольбой возьмись за труд по силе,
Путь к знаньям верой освяти
И с этим факелом к могиле,
Всего отгадчице, гряди.
Поучая «мудреца» идти этою дорогою, г-н Некрасов был строг и сурово наказывал «мудрецу» даже не любить людей, которые думали бы иначе идти к «отгадчице»:
И разлюби родного сына
За отступленье от творца!
Поэтической просьбы же г-на Некрасова к графу Михаилу Николаевичу Муравьеву*, когда поэт боялся, чтобы граф не был слаб, и умолял его «не щадить виновных», Артур Бенни не дождался, да и, по правде сказать, с него уже довольно было того, что бог судил ему слышать и видеть.
Бенни во всей этой нечистой игре с передержкой мыслей не мог понять ничего, да и укорим ли мы в этом его, чужеродца, если только вспомним, что наши коренные и умные русские люди, как, например, поэт Щербина*, тогда до того терялись, что не знали уже, что оберегать и над чем потешаться? Припомним только, что считал смешным и «комическим» Щербина, составитель весьма хорошей, если не самой лучшей книги для русского народа, стало быть человек способный более, чем чужеземец, проникать в то, что совершалось в нашей жизни. Покойный Щербина написал:
Когда был в моде трубочист,
А генералы гнули выю;
Когда стремился гимназист
Преобразовывать Россию;
Когда, чуть выскочив из школ,
В судах мальчишки заседали;
Когда фразистый произвол
«Либерализмом» величали;
Когда мог Ольхин быть судьей*,
Черняев же от дел отставлен*;
Катков преследуем судьбой*,
А Писарев зело прославлен*;
Когда стал чином генерал
Служебный якобинец С<та>сов*
И Муравьева воспевал
Наш красный филантроп Некрасов,—
Тогда в бездействии влачил
Я жизни незаметной бремя
И счастлив, что незнаем был
В сие комическое время!
Он был счастлив тем, что стушевался и спрятался в «сие комическое время».
Чем он обстоятельнее Артура Бенни и много ли его солиднее относился ко своему времени?
Но возвращаемся к герою нашего рассказа.
Глава тридцать девятая
Бенни порою доходил то до нервных слез, то до отчаяния, то до не оставлявших его столбняков, из которых два были особенно продолжительны и страшны. Он видел, что был кругом обманут, одурачен, разбит, оклеветан, смещен в разряд мальчишек, обобран и брошен в запомет.
Ради насущного хлеба он бросался искать работы повсюду и тут-то он увидал, что именно было самого существенного в распространенной на его счет гнусной клевете, что он будто бы агент тайной полиции и шпион. В либеральные или либерально-фразерские издания он, разумеется, уже и не покушался идти искать работы; но и из тихоструйных петербургских газет ни одна не давала ему надежды пристроиться. Он обратился к журналам. Первую свою работу (это была очень интересная компиляция) он передал, через одного из своих знакомых, покойному редактору «Отечественных записок» С. С. Дудышкину*. Но покойный Дудышкин, при всем его презрении к кружкам, из которых шли толки о шпионстве Бенни, однако же усомнился принять его и вежливо уклонился от помещения его работы. Отказ этот был сделан Бенни в самой деликатной форме, под обыкновенным редакционным предлогом; но до Бенни дошло, что Дудышкин сторонился от него по тем толкам, которые о нем были распущены бесцеремонными празднословами, и это для него было очень тяжелым ударом. Гораздо более терпимости и великодушия оказали Бенни в редакциях «Эпохи»* и «Библиотеки для чтения». Некогда сам много вытерпевший, Ф. М. Достоевский принял компиляцию Бенни* и заплатил за нее, а П. Д. Боборыкин даже предложил ему постоянные переводы в «Библиотеке»*. В сотрудниках того и другого журнала Бенни тоже встретил и мягкость и доверие и сам обнаруживал теплые тяготения к Н. Н. Страхову* и Н. Н. Воскобойникову*. В «Библиотеке для чтения» всеми силами хотели поддержать Бенни, но все это для него уже было поздно; он был уже истерзан и глядел не жильцом на этом свете. Два последние года он жил в каком-то отупении: обидные подозрения его мучили и беспрестанно напоминали ему о глупо прожитом времени; силы его оставили; у него явилась ко всему глубокая апатия, которой не рассеивала и его привязанность к любимой им русской девушке, да и эта полная глубокого и трагического значения для Бенни любовь его также его не осчастливила. Напротив, полюбя, он как бы совсем растерялся и, если так можно понятно выразиться, как бы распался под натиском незнакомого ему доселе чувства и потерял способность чем бы то ни было заниматься. Целые месяцы он не исполнял своих работ в журнал, и редакция должна была передать эти работы в другие, более аккуратные руки. Бенни остался безо всего и жил на счет займов; но, наконец, у него опять не стало ни кредита, ни платья, ни квартиры. Он проводил где день, где ночь в течение целого месяца и… бог его знает, в каком состоянии была в это время его голова и угнетенное несчастливою любовью сердце, но он часто говорил вздор, отвечал невпопад и во все это время мечтал о том, как бы освободить из Сибири г-на Чернышевского*. Какими средствами надеялся он располагать для исполнения этого плана, это осталось его тайною. Бенни, кажется, в это время был, что называют, «не в полном рассудке» и часто много и много плакал и молился.
Рано утром, в один весенний день, ночуя у меня в Коломне, против Литовского рынка, Бенни был взят под арест за долг портному Степанову и какому-то г-ну Вигилянскому, от коего вексель Бенни перешел к служившему чем-то в полиции полковнику Сверчкову, представившему на него кормовые*. Вакансий в долговом отделении в это время не было, и Бенни был заключен в одиночный каземат при Спасской части. В это время для него ударил роковой час разлуки с Россией; он не хотел уходить из нее честью, — она выгоняла его насильно.
Глава сороковая
Из-под аресту Бенни уже не суждено было выйти на свободу, потому что во время его ареста за долг г-ну Сверчкову и портному Степанову в правительствующем сенате было решено дело Ничипоренки, по оговору которого Бенни был под судом, и, по сенатскому решению, состоявшемуся по этому делу, Бенни, за передержательство Кельсиева (в чем, как выше сказано, его уличил перед судом Ничипоренко), было определено «подвергнуть его трехмесячному заключению в тюрьме и потом как иностранного подданного выслать за границу с воспрещением навсегда въезжать в Россию». Сам Ничипоренко умер прежде, чем состоялось о нем решение, а его сопутник в поездке в Лондон, акцизный чиновник Николай Антипыч Потехин, был освобожден, на основании отысканного в каких-то бумагах собственноручного письма г-на Герцена, в котором было сказано, что все касающееся планов г-на Герцена известно лишь только благонадежному Ничипоренке, а г-ну Потехину ничего не открыто, потому что он (приводим подлинные слова) «добрый малый, но болтун». Это выгодное мнение г-на Герцена* отворило перед г-ном Потехиным заключенные двери его русской темницы.
Содержание под арестом в каземате съезжего дома Спасской части произвело на Бенни ужасное действие, тем более что он был арестован больной. Под арестом нервное расстройство его достигло высочайшей степени. В маленькой, душной, узенькой каморке с крошечным окном под потолком он томился, жалуясь на недостаток воздуха и на беспокойство, которое переносил от беспрерывно привозимых в часть пьяниц и дебоширов. В госпиталь он не хотел идти, боясь, что там будет лишен последнего удобства — одиночества, и потому он постоянно скрывал свою болезнь от тюремного начальства. В тюрьме Бенни помогал кое-чем известный добряк, так же безвременно погибший, покойный рождественский священник Александр Васильевич Гумилевский*, а на выкуп несчастливца родной брат Бенни, пастор Герман Бенни, выслал деньги, но уже выкупом дела невозможно было поправить: арест перешел из долгового в криминальный. В тюрьме, во время своего заключения, Бенни от скуки читал очень много русских книг и между прочим прочел всего Гоголя. По прочтении «Мертвых душ», он, возвращая эту книгу тому, кто ему ее доставил, сказал:
— Представьте, что только теперь, когда меня выгоняют из России, я вижу, что я никогда не знал ее. Мне говорили, что нужно ее изучать то так, то этак, и всегда, из всех этих разговоров, выходил только один вздор. Мои несчастия произошли просто оттого, что я не прочитал в свое время «Мертвых душ». Если бы я это сделал хотя не в Лондоне, а в Москве, то я бы первый считал обязательством чести доказывать, что в России никогда не может быть такой революции, о которой мечтает Герцен.