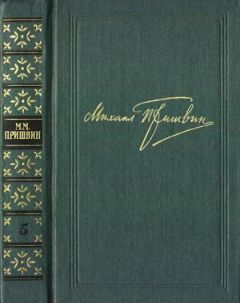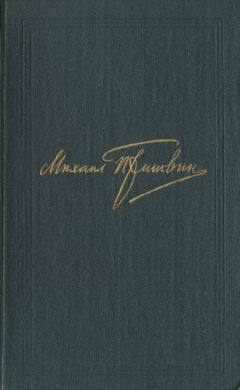Влас Дорошевич - Литераторы и общественные деятели
Лампа и книга, взятая из библиотеки.
И эта лампа, освещающая раскрытую книгу, казалась мне солнцем, освещающим мир. И не было для меня картины в мире прекраснее этой.
Интеллигентный труд, скромный и безвестный, тяжёлый и упорный.
Непременно тяжёлый. В другом не было прелести.
Труд на слабых, на беспомощных, на обиженных.
Труд, которому отданы все силы, вся жизнь.
И измученному от тяжёлого труда отдых — книга, разговор о ней с такими же маленькими, скромными, незаметными тружениками.
Такою рисовалась жизнь.
Такою рисовалась она этому юному, — этим юным читателям Шеллера.
Не в Бог весть какую надзвёздную высь уносил нас он.
Но поэзию скромного труда, но сладость самоотвержения, незаметного для других, — редко кто умел так написать, как Шеллер.
Это не было солнце, ярко освещавшее нам мир.
Это была, скорее, луна, светившая нам в сумраке нашей юности, — когда перед нами открывалась дверь родительского дома:
— Иди, живи.
Луна с её мягким, нежным светом.
И лучи этого света, мягкие, и, — тут разница с лучами луны, — тёплые лились нам в душу.
Такой рисовалась нам жизнь, которою стоит жить.
Ну-с, где же теперь этот юноша, читатель Шеллера? Где его комнатка? Его железная постель с серым байковым одеялом? Его лампа? Его книга?
— Что вышло из того поколения, которое воспиталось на Шеллере?
Увы! Вся наша жизнь состоит из того, что мы даём ганнибаловы клятвы над книгами наших любимых писателей, не сдерживаем этих клятв и каемся.
Раскаиваться, всегда, это — удел интеллигентного русского человека.
Раскаяние, это — его занятие, его профессия, его «образ жизни».
Servus servorum[5], так сказать, «подчеловек» грезился идеалом нам, шеллеровским читателям, как теперь многим юношам грезится «сверхчеловек».
Этот идеал, навеянный тогда шеллеровскими произведениями, с течением времени, конечно, изменился, кое-где потускнел и выцвел, кое-где окрасился в более яркие цвета, кое в чём упал, кое в чём углубился, кое в чём вырос, кое в чём стал шире.
Но мягкий, тёплый свет, запавший в душу, всё же остался в ней, и мы, люди того поколения, чувствуем в душе теплоту от этих лучей.
Видеть поэзию в скромном труде, чувствовать и подмечать скромное, невидное посторонним, самопожертвование маленького труженика.
Это «шеллеровские лучи», запавшие нам в нашей юности.
Когда мы видим маленького труженика, скромного, незаметного, полезного, — нам чудится:
— Шеллеровский тип!
Мы видим поэзию в его скромном труде, мы умеем найти самопожертвование в его безвестном подвиге.
Мы лучше понимаем его. Он ближе нам.
Ведь мы уж давно любим его.
Мы охотнее придём к нему на помощь, вступимся за него, если это ему нужно, если мы это можем.
И если мы спросим себя:
— Почему мне так близки, так дороги, так милы и так понятны эти люди?
Мы, быть может, с благодарностью ответим:
— Шеллер был первый, кто заставил нас полюбить этих людей.
Кто знает, быть может, если б не было Шеллера в нашей юности, — мы были бы ещё хуже, чем мы есть.
Это не был набат, призывавший к героической борьбе.
Это был утренний звонок, призывавший к труду и доброму делу, прозвучавший на заре нашей юности.
Вот minimum того, что сделал Шеллер для поколения, воспитавшегося на его произведениях.
И если в нашем поколении очень сильна ненависть, очень сильно презрение ко всему фарисейскому, ко всему показному, ко всему рекламирующему, ко всему наглому, ко всему, прикрывающемуся громкими словами, бездушному и бессердечному внутри, — быть может, и за это мы должны благодарить отчасти Шеллера.
Быть может, я сейчас с трудом рассказал бы даже содержание тех шеллеровских повестей, которые в юности перечитывал по несколько раз.
Это недостаток просто памяти.
Память сердца лучше.
Я не мог бы назвать фамилий этих героев, самые их фигуры исчезли из моей памяти, но впечатления, которые они вызывали, остались в душе.
Немного забавно самому, — я до сих пор сохранил ненависть и презрение, и величайшее отвращение к титулующим себя филантропами, к их обществам, к их затеям.
К этим благотворителям, которые, давая голодной семье корочку хлеба, спешат отдёрнуть свою святую руку, чтобы не замараться.
Тип, который так великолепно умел рисовать Шеллер. Тип, с которым было достаточно познакомиться по Шеллеру, чтоб возненавидеть на всю жизнь.
Раз как-то я увлёкся было одним благотворительным обществом. Его программой, его людьми.
Оно показалось мне не таким, как другие.
Я написал даже о нём статью, достаточно прочувствованную.
Но когда мне принесли корректуру, мне вспомнился Шеллер.
Мне показалось это кому-то чему-то изменой.
Я перечитал статью:
— Кажется, я прав!
А всё-таки лучше зачеркнуть…
И я зачеркнул её, иронически улыбнувшись над собой, дружески улыбнувшись своей юности.
Ну, а потом вышло, что и это общество, так увлёкшее многих вначале, оказалось тем же, чем и все другие.
Ты был прав, друг и наставник моей юности, предостерегая от фарисейства, от лицемерия, скрытых под очень красивыми фразами.
Ты был прав, говоря:
— Не верьте фирме, не верьте рекламе, не верьте этим бутафорским громам и бенгальским огням. Всё ложь, всё лицемерие. Верьте только в маленького, незаметного, скромного труженика. Только в него.
Быть может, очень субъективно то, что я говорю. И я в таком случае прошу прощенья у читателя.
Но мне думается, что многие из людей моего поколения, прочитав эти строки, увидали бы в них отражение своих ощущений.
Ведь наша юность прошла при Шеллере.
И «Шеллер» звучит нам, как «юность».
IIМихайлов…
Это уже звучит иначе.
«Шеллер», это — та нота, которой начиналась мелодия тихая и ясная.
«Михайлов», это — уже аккорд из симфонии.
Из симфонии, которая казалась героической тогда, о которой теперь можно вспомнить с улыбкой без горечи.
Такое было время.
Теперь г. Нотович делает Бокля «доступнее» для взрослых.
Тогда гимназист четвёртого класса, не читавший «Истории цивилизации Англии», считался «отсталым».
В пятом классе мы вырабатывали устав рабочего банка «по Прудону».
И среди излюбленных книг, обязательных для прочтения всякому «мыслящему» юноше, была «История пролетариата во Франции» Михайлова.
— Он читает уже «Историю пролетариата».
Это было в те времена куда большим аттестатом зрелости, чем «аттестат зрелости».
Не зная хорошенько, что такое «история», что такое «пролетариат» и что такое «Франция», мы читали и зачитывались этой книгой.
И она больше говорила нам, чем всё, что было говорено в школе.
Думали ли создатели классицизма, куда пойдёт молодая мысль, жаждущая знанья, страстная, сгорающая от любопытства, — куда она пойдёт, куда она бежит от их классической пустыни.
Нас заставляли учить Цицерона, а мы делались «Катилинами».
Не забавно?
И вот на экзамене истории при переходе из четвёртого в пятый класс ваш покорнейший Катилина вынимает билет:
«Первая французская революция».
Можете себе представить, как я задрожал.
Вот когда я всё расскажу.
Было часа два. Измученный экзаменом, наш «историк» К. лениво протянул руку за моим билетом:
— Ну, что у вас там?
— Великая французская революция!
— Первая французская революция! — небрежно сказал К. — Ну, рассказывайте!
— Великая французская революция… — с ударением повторил я.
И пошёл!
Даже усталый вконец К. поднял голову:
— Позвольте! Позвольте! Да вы по какому же, собственно, источнику готовились?
— По «Истории пролетариата во Франции», — заносчиво отвечал я.
К. только откинулся на спинку кресла:
— Ого!
Он улыбнулся:
— По Иловайскому надо готовиться. Ну, да ладно. Расскажите-ка лучше про битву у Калки, что вы знаете?
И, глотая слёзы обиды, мне пришлось рассказывать про битву при Калке.
Так К. и не узнал истины про французскую революцию.
А жаль!
Он, к слову сказать, был магистром истории, должен был получить кафедру, но не получил, вследствие «истории»…
Не поручусь, что мы знали, — что Михайлов, автор «Пролетариата», тот же Михайлов, который пишет романы.
Быть может, многие из нас при таком известии исполнились бы величайшего изумления:
— Этого не может быть!
Михайлов-романист, — это была тихая, умилённая молитва труду, помощи ближнему, любви.
В «Пролетариате» для нас гудел набат.
Для нас…
Прочтите, как тиха и спокойна эта книга.
В ней нет ни трубных звуков ни грохота барабанов.
Почему же это слышалось нам тогда?
Время было такое.
Возьмите тлеющий уголёк, опустите его в кислород, — он вспыхнет ярким и сильным пламенем.