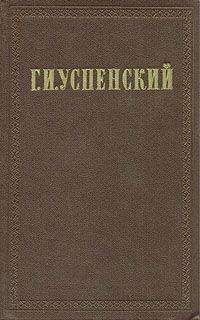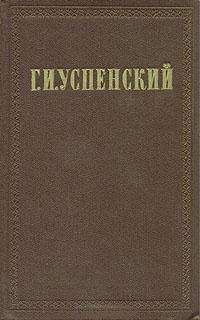Глеб Успенский - Столичная беднота
Однажды, часа в два дня, возвращалась она из лавки с тесемками в руках. В это время кто-то, не говоря ни слова, подхватил ее "под ручку" и спокойно произнес:
— Куда ты, милочка, бежишь?
Татьяна в испуге бросилась от своего кавалера; но тот крепко держал руку ее и, улыбаясь, говорил:
— О, глупая!
— Отстаньте! — крикнула Татьяна.
Татьяна начала отбиваться и наконец вырвалась. Тотчас же она юркнула под ворота. Господин в пуховой шляпе, с сероватыми усами, улыбался и шел за ней следом. Наконец она добралась к двери своей квартиры. Господин остановился рядом с ней.
— Уйдите, ради бога! — убедительно просила его Татьяна, боясь хозяйки, которая в эту пору обыкновенно бушевала в мастерской… — Хозяйка дома, она увидит… Подумает…
— Что ж такое? Как ее звать?
Танечка решительно не знала, что делать. Вдруг она отворила дверь, юркнула в кухню и заперла дверь на крючок.
— Слава богу! — говорила Татьяна, очутившись в кухне и дрожа от испуга.
В это время неожиданно раздался звонок с парадного хода.
— Татьяна, отвори! — приказала Акулина.
— Ну-ко он?
— Отвори!
Звонок повторился. Татьяна отворила: это был он.
— А! вот и ты! Ну, проводи меня в комнату…
— Барин, голубчик! Тут хозяйка!
— Ну, в кухню проводи! Хозяйка? Что ж такое? Где кухня?
Барин прошел в переднюю и потом в кухню.
— Кто там? — крикнула сверху хозяйка.
— Это… к Акулине! — ответила Танечка.
Между тем барин уселся в кухне на лавке; снял шляпу, закурил не спеша папироску — и разговорился с Акулиной. Барин был так прост с ней, несмотря на то, что, повидимому, был очень богат, что Акулина тотчас же растаяла перед ним. Через две-три минуты к Татьяне, присутствовавшей в кухне, присоединились две-три подруги сверху, и барин просто обворожил их. Он показывал, например, ключик от своих золотых часов: в ключе была сделана микроскопическая картинка клубничного свойства; девушки смотрели и помирали со смеху; дверь из кухни поэтому заперли. Такого же свойства картинки были сделаны у барина в палке, в папироснице и, кажется, во всех пуговицах жилета. Барин все это показывал им и вместе с ними смеялся. В заключение он показал свою палку; все нашли, что в палке нет ничего особенного. Тогда барин из палки сделал стул, и каждая из девушек считала обязанностью присесть. Даже Акулина попробовала и нашла стул великолепным.
Все были в восторге.
Показав стул, барин опять сложил его в палку, взялся за шляпу и сказал Татьяне весьма ласково:
— Так уж, милая Танечка, я у вас буду опять!
— Ах нет, нет.
— Буду, буду-с!.. Непременно-с!.. К пяти или к шести часам в четверг… Поедем, погуляем!
— Что вы! что вы! — закричали все девушки.
— Непре-мен-но-с! К шести часам!
Барин скрылся.
Танечка, да вообще весь швейный мир решительно не знали, что подумать об этом и что тут делать. Самое вероятное было то, что храбрая Татьяна начала бояться незнакомого господина, как барина.
Акулина не могла ничего присоветовать. Сказать хозяйке — та не поймет, в чем дело, разорется, подумает бог знает что и изобьет. Я присоветовал прогнать — все возопили.
— Он-те прогонит! — говорила Танечка.
Целую неделю вплоть до четверга она ходила в каком-то забытьи, в лихорадке. Я старался ее разуверить, что барин не приедет и не посмеет ничего сделать, и Танечка немного успокоилась. Пришел четверг. Пробило шесть часов — барина не было. Я ушел из дому в полной уверенности, что он не будет совсем, потому что, в самом деле, не мог себе представить, чтобы на белому свете мог существовать подобный наглец.
Вечером, однако, я узнал следующее.
По уходе моем Танечка была совершенно спокойна. Она вместе с другими сидела в кухне и пела песни, на дворе шел дождь.
— Не придет! — говорили все.
Вдруг дверь отворилась, и барин — мокрый, с зонтиком — вошел в кухню. Все обомлели в буквальном смысле слова. Закоченели, замерли.
— Готова? — спросил барин.
Татьяна была бледна, как полотно. Она так испугалась "барина", что не нашла против его требований никакого возражения. Она вдруг почувствовала себя во власти этого "барина", крепостной страх охватил ее, и она едва-едва пролепетала:.
— Башмаков… нету!
— Так дайте же кто-нибудь башмаки! Эй ты, дай ей башмаки!
— Авдотья, дай! — шопотом приказала Акулина, решительно не понимавшая, что делается кругом.
Танечка, не помня, что делает, торопливо надевала башмаки.
— Это несносно! — горячился барин. — Дайте же ей чем-нибудь накрыться… Это чорт знает что такое!.. Лошадь ждет!.. Дайте хоть платок!
Мигом принесли всё; Танечка сама торопливо укуталась; а Акулина, также вся охваченная атмосферою крепостных преданий, проворно выговорила с угодливостью рабыни:
— Готова-с!
Барин с сердцем толкнул дверь, вывел Танечку за руку и скрылся.
Все были поражены и решительно не могли ничего сообразить.
Я воротился часов в одиннадцать ночи. В кухне против обыкновения был огонь. Все швеи сидели вокруг стола и молча смотрели на Татьяну, которая была вся в слезах.
— Танечка, что с тобой? — спросил я.
— Убирайтесь вы! — неистово закричала она на меня.
Я ушел к себе в комнату. Через несколько минут ко мне тихонько явилась Акулина и шопотом передала только что случившуюся историю. "Барин" оказался одним из крупнейших московских обжор и воротил; с ним ничего нельзя было сделать (на Руси есть такой тип!), так как всякое дело он мог "затушить" и уже давно привык к этому. Он был нагл, потому что все мог.
После таких треволнений, возмутивших спокойствие нашей квартиры, настало совершенное затишье. Дуняша спокойно путешествовала в дворницкую; Танечка притворилась, как будто с ней ничего и не бывало; хозяйка попрежнему не платила денег, и к вящей тишине и спокойствию нашей квартиры — даже не являлся управляющий. Хозяин попрежнему возвращался под хмельком, на заре, и вообще все шло по-старому. Солоша, третья личность, на которую я хотел обратить внимание, все шепталась о чем-то с Акулиной, и в кухне начали появляться какие-то старухи; слышно было, что Солоше сулят счастие и благоденствие. В последнее время даже у Татьяны завелись какие-то тайны; по вечерам и она исчезала куда-то вместе с Дуняшей. Все это делалось втихомолку, тайком, крадучись.
Несмотря на это, повторяю, в нашей квартире было полное затишье. Так тянулось месяца три. Затишье сделалось до такой степени несносной вещью для всех, что вся квартира наша жаждала какой-нибудь перемены.
Судьба положила предел этой тишине катастрофой, ужасной и трагической.
Началось дело с того, что в один вечер Дуняша явилась ко мне под хмельком и едва ворочавшимся языком объявила, что Иван ее обманул. Он отпирается от своих слов насчет женитьбы. "Ты, — говорил он Дуняше, — несоответственного поведения… Мне этого нельзя!" Дуняша плюнула по этому случаю дворнику в бороду и убежала искать старого друга Андрюшку. Кроме отказа от женитьбы, дворник сделал еще другую безобразную вещь: он утаил адрес Андрюшки, который, уходя в Грузины, дал его для передачи Дуняше.
Дворник, убедившись, что последовал разрыв, расславил Дуняшу на весь дом и не давал проходу через двор. Андрюшка, которого Дуняша нашла-таки, изображал из себя обиженного человека и обошелся холодно.
Чтобы отделаться от старой подруги своей, он напоил ее допьяна и отправил на извозчике домой.
С этого дня начались ссоры и брань. Дуняша ругалась с Акулиной. Акулина утверждала, что она никогда не говорила Дуняше насчет женитьбы Ивана, и тоже ругалась. Дуняша снова заклялась; но чрез день прошел слух, что ее сманил "старик-табатер", сделавший ей шелковое платье. Дуняша начинала являться домой все чаще и чаще под хмельком.
В эту пору неприятно было ее видеть.
За этим, как кажется, плачевным окончанием Дуняшиной жизни последовало новое, глубоко печальное событие.
В одно утро, уже часу во втором дня, на двор с грохотом влетела пролетка, и скоро в кухню вбежал трактирный половой в чуйке.
— Здесь девица? — шопотом спросил он.
— Ты от кого? — спросила в свою очередь Акулина.
— Из трактира "Ростов"… Здесь, через Анну Филипповну, рекомендовали одному купцу даму — Соломониду?..
— Здесь…
— Пожалуйте. Они требуют… Так как они желают их для услужения… Опять же деньги получены…
— Половину денег получили… только; где же остальные?
— На месте-с!
Разговор этот происходил шопотом; но я слышал его, стоя на лестнице и приготовляясь отнести в кухню графин. Все, что только услышал я, испугало меня. Очевидно было, что Соломонида была "продана" и — что особенно горько — желала быть проданной; я теперь только уяснил себе "шопот" между нею и Акулиной, и этот шопот теперь выяснился мне как спокойный, торговый разговор. Я тотчас же отправился в залу, чтобы объяснить Марье Петровне все, что у нее делается. Марья Петровна была любезна сверх сил. Я надеялся высказать ей много, как неожиданно раздался опять звонок, и спустя несколько минут явился управляющий.