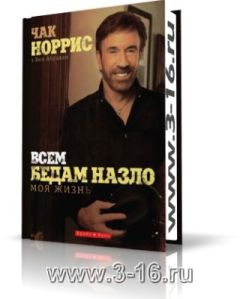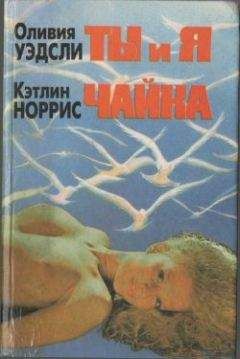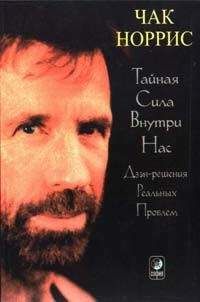Осип Мандельштам - Шум времени
ЭРФУРТСКАЯ ПРОГРАММА
"Чего ты читаешь брошюры? Ну какой в них толк?"
- звучит у меня над ухом голос умнейшего В. В. Г.
- "Хочешь познакомиться с марксизмом? Возьми Капитал Маркса". Ну, и взял, и обжегся, и бросил - вернулся опять к брошюрам. Ох, не слукавил ли мой прекрасный тенишевский наставник? Капитал Маркса - что физика Краевича. Разве Краевич оплодотворяет? Брошюрка кладет личинку - вот в этом ее назначенье. Из личинки же родится мысль.
Какая смесь, какая правдивая историческая разноголосица жила в нашей школе, где география, попыхивая трубкой кэпстен, превращалась в анекдоты об американских трестах, как много истории билось и трепыхалось возле тенишевской оранжереи на курьих ножках и пещерного футбола!
Нет, русские мальчики не англичане, их не возьмешь ни спортом, ни кипяченой водой самодеятельности. В самую тепличную, в самую выкипяченную русскую школу ворвется жизнь с неожиданными интересами и буйными умственными забавами, как однажды она ворвалась в пушкинский лицей.
Книжка "Весов" под партой, а рядом шлак и стальные стружки с Обуховского завода, ни слова, ни звука, как по уговору, о Белинском, Добролюбове, Писареве, зато Бальмонт в почете, и недурные у него подражатели, и социал-демократ перегрызает горло народнику и пьет его эсеровскую кровь, напрасно тот призывает на помощь своих святителей Чернова, Михайловского и даже... "Исторические письма" Лаврова Все, что было мироощущением, жадно впитывалось. Повторяю: Белинского мои товарищи терпеть не могли за расплывчатость мироощущения, а Каутского уважали и наряду с ним протопопа Аввакума, чье житье в павленковском издании входило в нашу российскую словесность.
Конечно, тут не без В. В. Г., формовщика душ и учителя для замечательных людей (только таких под рукой не оказалось). Но об этом впереди, а пока здравствуй и прощай Каутский, красная полоска марксистской зари!
Эрфуртская программа, марксистские пропилеи, рано, слишком рано приучили вы дух к стройности, но мне и многим другим дали ощущение жизни в предысторические годы, когда жизнь жаждет единства и стройности, когда выпрямляется позвоночник века, когда сердцу нужнее всего красная кровь аорты! Разве Каутский - Тютчев? Разве дано ему вызывать космические ощущения ("и паутины тонкий волос дрожит на праздной борозде")? А представьте, что для известного возраста и мгновения Каутский (я называю его, конечно, к примеру, не он, так Маркс, Плеханов, с гораздо большим правом) тот же Тютчев, то есть источник космической радости, податель сильного и стройного мироощущения, мыслящий тростник и покров, накинутый над бездной.
В тот год, в Зегевольде, на курляндской реке Аа, стояла ясная осень с паутинкой на ячменных полях. Только что пожгли баронов, и жестокая тишина после усмирения поднималась из спаленных кирпичных служб. Изредка протараторит по твердой немецкой дороге двуколка с управляющим и стражником и снимет шапку грубиян латыш. В кирпично-красных, изрытых пещерами слоистых берегах германской ундиной текла романтическая речка и бурги по самые уши увязли в зелени. Жители хранят смутную память о недавно утонувшем в речке Коневском. То был юноша, достигший преждевременной зрелости и потому не читаемый русской молодежью: он шумел трудными стихами, как лес шумит под корень. И вот, в Зегевольде, с эрфуртской программой в руках, я по духу был ближе Коневскому, чем если бы я поэтизировал на манер Жуковского и романтиков, потому что зримый мир с ячменями, проселочными дорогами, замками и солнечной паутиной я сумел населить, социализировать, рассекая схемами, подставляя под голубую твердь далеко не библейские лестницы, по которым всходили и опускались не ангелы Иакова, а мелкие и крупные собственники, проходя через стадии капиталистического хозяйства.
Что может быть сильнее, что может быть органичнее: я весь мир почувствовал хозяйством, человеческим хозяйством - и умолкшие сто лет назад веретена английской домашней промышленности еще звучали в звонком осеннем воздухе! Да, я слышал с живостью настороженного далекой молотилкой в поле слуха, как набухает и тяжелеет не ячмень в колосьях, не северное яблоко, а мир, капиталистический мир набухает, чтобы упасть!
СЕМЬЯ СИНАНИ
Когда я пришел в класс совершенно готовым и законченным марксистом, меня ожидал очень серьезный противник. Прислушавшись к самоуверенным моим речам, подошел ко мне мальчик, опоясанный тонким ремешком, почти рыжеволосый и весь какой-то узкий, узкий в плечах, с узким мужественным и нежным лицом, кистями рук и маленькой ступней. Выше губы, как огненная метка, у него был красный лишай. Костюм его мало походил на англо-саксонский тенишевский стиль, а словно взяли старые-старые брючки и рубашонку, крепко-крепко с мылом постирали их в холодной речке, высушили на солнце и, не поутюжив, дали надеть. Посмотрев на него, всякий сказал бы: какая легкая кость! Но, взглянув на лоб, скромно-высокий, подивился бы чуть раскосым, с зеленоватой усмешкой глазам и задержался бы на выражении маленького горько-самолюбивого рта. Движения его, когда нужно, были крупны и размашисты, как у мальчика, играющего в бабки в скульптуре Федора Толстого, но он избегал резких движений, сохраняя меткость и легкость для игры; походка его, удивительно легкая, была босой походкой. Ему подошла бы овчарка у ног и длинная жердь: на щеках и подбородке золотистый звериный пушок. Не то русский мальчик, играющий в свайку, не то итальянский Иоанн Креститель с чуть заметной горбинкой на тонком носу.
Он вызвался быть моим учителем, и я не покидал его, покуда он был жив, и ходил вслед за ним, восхищенный ясностью его ума, бодростью и присутствием духа. Он умер накануне прихода исторических дней, к которым он себя, готовил, к которым готовила его природа, как раз тогда, когда овчарка готова была улечься у его ног и тонкая жердь Предтечи должна была смениться жезлом Пастуха. Звали его Борис Синани. Произношу это имя с нежностью и уважением. Он был сыном известного петербургского врача, лечившего внушением, - Бориса Наумовича Синани. Мать была русской, а Синани - караимы-крымчаки. Не отсюда ли двойственность его облика: и новгородский русский мальчик, и нерусская горбинка, и золотистый пушок кожи крымского чабана с Яйлы. Борис Синани с первых же дней своего сознательного существования и по традиции крепкой и чрезвычайно интересной семьи, считал себя избранным сосудом русского народничества. Мне кажется, в народничестве его прельщала не теория, а скорее душевный строй. В нем чувствовался реалист, готовый в нужную минуту отбросить все рассужденья ради действия, но пока что его юношеский реализм, не заключавший в себе ничего плоского и мертвящего, был пленителен и дышал врожденной духовностью и благородством. Борис Синани умелой рукой снял с моих глаз катаракту, скрывавшую, по его мнению, от меня аграрный вопрос. Синани жили на Пушкинской улице, против гостиницы "Пале-Рояль". Это была могучая по силе интеллектуального характера, переходящего в выразительную примитивность, семья. На Пушкинской доктор Борис Наумович Синани жил, очевидно, уже давно. Седой швейцар питал безграничное уважение ко всему семейству, начиная от свирепого психиатра Бориса Наумовича и кончая маленькой горбуньей Леночкой. Никто без трепета не переступал порога этого жилища, так как Борис Наумович сохранял за собой право выгнать человека, который ему не понравится, будь то пациент или просто гость, который скажет глупость. Борис Наумович Синани был врач и душеприказчик Глеба Успенского, друг Николая Константиновича Михайловского, впрочем, далеко не всегда ослепленный его личностью, и советник и наперсник тогдашних эсеровских цекистов.
С виду он был коренастый караим, сохраняя даже караимскую шапочку, с жестким и необычайно тяжелым лицом. Не всякий мог выдержать его зверский, умный взгляд сквозь очки, зато, когда он улыбался в курчавую, редкую бороду, улыбка его была совсем детская и очаровательная. Кабинет Бориса Наумовича был под строжайшим запретом. Там, между прочим, висела его эмблема и эмблема всего дома, портрет Щедрина, глядящий исподлобья, нахмурив густые губернаторские брови и грозя детям страшной лопатой косматой бороды. Этот Щедрин глядел Вием и губернатором и был страшен, особенно в темноте. Борис Наумович был вдов, упрямым волчьим вдовством. Жил он с сыном и двумя дочерьми, старшей, косоглазой, как японка, Женей, очень миниатюрной и изящной, и маленькой горбатой Леной. Пациентов у него было немного, но он держал их в рабьем страхе, особенно пациенток. Несмотря на грубость его обхождения, они дарили ему вышитые лодочки и туфли. Он жил, как лесник в сторожке, в кожаном кабинете под щедринской бородой, и со всех сторон его окружали враги: мистика, глупость, истерия и хамство; с волками жить по-волчьи выть.
Авторитет Михайловского, в кругу даже значительных людей того времени, был, очевидно, громаден, и Борис Наумович вряд ли с этим легко мирился. Как ярый рационалист, в силу рокового противоречия, он сам нуждался в авторитете и невольно чтил авторитеты и мучился этим. Когда случались неожиданные крутые повороты политической или общественной жизни, в доме всегда подымался вопрос, что скажет Николай Константинович; через некоторое время у Михайловского, действительно, собирался сенат "Русского Богатства", и Николай Константинович изрекал. Старик Синани в Михайловском ценил именно эти изречения. Вот как располагалась скала его уважения к деятелям тогдашнего народничества. Михайловский хорош, как оракул, но публицистика его вода, и человек он непочтенный. Михайловского он в конце концов не любил. За Черновым признавал сметку и мужицкий аграрный ум. Пешехонова считал тряпкой. К Мякотину питал нежность, как к Вениамину. Ни с кем из них он не считался серьезно. По-настоящему он уважал эсеровского цекиста, старика Натансона. Два-три раза седой и лысый Натансон, похожий на старого доктора, открыто для нас, детей, приходил беседовать к Борису Наумовичу. Восторженный трепет и гордая радость не имели границ: в доме был цекист.