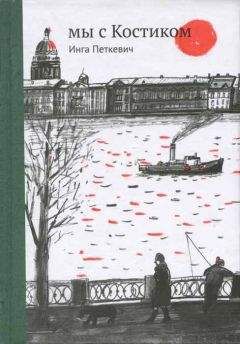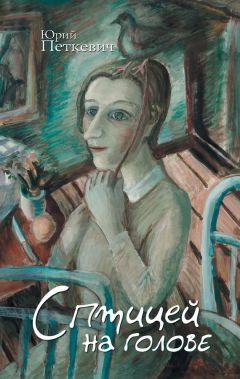Юрий Петкевич - Бессонница
Наконец Фрося взмолилась:
- Пусти!
Я не отпустил, но остановился, чтобы перевести дыхание, и она заявила:
- У меня болит вместо сердца рука, - и показала там, где я держал ее, и сердце мое сжалось... - Впрочем, - добавила Фрося, - в любом деле надо искать свои выгоды. Мне кажется: за тем я и здесь, чтобы исправить кое-какие записи в личном деле...
Я вынул ей из пакета банан, она жевала и заплакала, а я маялся с нею рядом, считал оставшиеся листья на дереве у крыльца, но их было еще так много, что несколько раз сбивался со счету, приходилось начинать сначала, когда некоторые опадали на глазах - часто охапками.
После того, как отвел Фросю в больницу, ноги у меня при каждом шаге стали подниматься выше, они сделались неожиданно легкими, и - руки, и голова, весь я, - что ветерок распоряжался мной, как соломинкой, и я готов уже был смеяться, только еще не в силах, но улыбка блаженствовала на устах. Всего меня выталкивала кверху какая-то сила - будто я был деревянный и погружен в воду; и еще ноги, куда ни шло, а руки висели надо мной, по сторонам, как у пугала. Ничего не мог придумать, как мне жить дальше, только подмигивал всем подряд женщинам. Проходил мимо хлебного ларька - вспомнил, что за целый день во рту ни крошки. Полез в карман за деньгами, не успел достать - продавщица поспешно говорит:
- Весь хлеб кончился, извините.
Если бы я не глянул на нее - шагнул бы дальше, а так поинтересовался:
- Зачем вы тогда не закрываете?
- Купи конфет, - предлагает.
- А как тебя звать? - спрашиваю.
- Если купите, скажу...
Она взвесила мне самых лучших - такая приятная, с ямочками на щеках блондиночка - и стала бросать конфеты в сумку, что пошила когда-то мне мама. Материя старая, желтые мелкие цветки вылиняли на голубом.
- Маша, - говорит.
И я сказал:
- Что же ты, Маша, в мешочек конфеты не упаковала, а по одной бросаешь? У меня дырки в сумке - еще потеряю, - и при упоминании о дырках я улыбнулся ей, и она мне тоже так мило улыбнулась, вся растаяла, что я понял, как просто все оказывается, только надо ждать случая, а его ведь можно искать.
Одному в пустыне
- Подожди меня, Павлик, - сказал.
Сажусь на чемодан и смотрю, как дядя с каждым шагом растворяется в темноте; держал руки в карманах и курил на ходу сигарету. Когда остался только огонек, я говорю:
- Нет, - кричу: - Мне скучно, я пойду с тобой!
- Ладно, - соглашается, - только никому не говори...
- Странный ты какой, дядя Эдик, - удивляюсь.
Пробираюсь за ним в бурьяне. Дядя внимательно посмотрел на меня:
- Зря, - говорит. - Выпачкаешься.
- Пусть, - говорю.
- Ладно.
За кустами достает из пиджака бутылку. Наполовину пустая. Поднял над головой. Я отвернулся. Слышу, как булькает у него в горле. Я знаю, что она горькая, но понимаю его, иногда я понимаю. Поворачиваюсь к нему, когда он грызет корочку хлеба.
Я говорю:
- В чемодане есть курица.
- А, - махает рукой.
Я говорю ему:
- Напьешься.
- А, - махает.
- А мне, - напоминаю, - опять к бабушке.
- Много ты, Павлик, рассуждаешь, - говорит.
Переходим на другую сторону путей. Впереди прожектора, и, может, поэтому - здесь, где мы переступаем через рельсы, темнота сгущается, а дальше: за прожекторами - совсем густо, черно.
- Смотри под ноги, - напоминает дядя в свою очередь.
А сам все больше - по сторонам, и я - хотя не двигаю головой, - но глаза у меня, как у зайца. За заборами стена. В окнах электрический свет и ходят люди. Что-то говорят между собой - не слышно. Идем от одного окна к другому. Я здороваюсь с теми, кто в окнах. И вот тени - от нас, с каждым шагом вырисовываются ярче. Еще прожектор. Я зажмуриваюсь от яркого света в глаза, вдруг он меркнет и вокруг вырастает синева шатром над головой.
- Ты хоть знаешь свою фамилию? - интересуется дядя Эдик.
- Да, - сначала отвечаю, потом поправил: - Нет!
- Тебя не поймешь, как и их всех, - говорит.
- Да, - тогда говорю.
- Уже близко вокзал, - дядя остановился. - Надо еще выпить.
- Тебе нельзя пить, - говорю. - Ты уже шатаешься.
- Это от вчерашнего, - объясняет, - расшатало.
- Ты совсем медленно идешь, - говорю. - Мы не успеем на поезд.
- Иди, - подталкивает, - быстрей - и занимай очередь.
Я побежал. Уже светло, и я теперь не боюсь. У вокзала оглянулся. Дядя Эдик стоит у забора. Нет, все-таки идет! Как он шатается! Только почему без моего чемодана? А вон еще кто-то рядом с ним, с чемоданом. Лучше ничего не думать и не оглядываться!
На вокзале полно народу. Подхожу к кассе. Очередь быстро продвигается. Без конца хлопают у входа дверями, и я каждый раз оглядываюсь. Вынул из кармана деньги и считаю. Женщина сзади заглядывает, наклонилась:
- Мальчик, ты тоже за билетом?
- Да.
- У такого маленького - такие деньги? - изумляется.
- Я большой, - говорю, но она своими нелепыми вопросами отвлекла меня, я сбился со счета и готов был уже расплакаться - тут увидел незнакомого мужчину с моим чемоданом - сразу мне отлегло, а незнакомец сказал:
- Не в эту кассу стоишь.
- Почему?
- Здесь на электричку.
В другой кассе ни одного человека. Наконец и дядя Эдик приплелся. И сразу - к другой.
- Детский - на 7.35. - Машет мне: - Давай деньги.
- Один детский? - переспросила продавщица.
- Один, - повторил дядя Эдик. - А что?
- Ничего, - сказала, потом объявила: - 49-ый на 7.35. отменили.
- Отменили? - не поверил. - А следующий?
Вышли из вокзала на другую сторону. На перроне уже совсем светло. Ожидающие электрички выстроились на самом краю платформы. Их лица - серые; я заглядывал в них, в каждое из них, - по очереди люди поворачивались ко мне и тут же устремляли глаза дальше. Над горизонтом появился алый полукруг солнца, а когда оно выкатилось, - глаза у людей заблестели ярче. И - оттого что они наблюдали, как встает солнце, нехотя смотрели на него, когда на него можно смотреть, лица оказались все как одно - и с одним выражением - его описать невозможно, и я ощутил в душе облегчение и глубоко вздохнул - так вздохнул, что незнакомец с моим чемоданом остановился и обождал меня. И дядя Эдик внимательно глянул мутными красными глазами.
Мы еще немного прошли, и я увидел на земле спиленный тополь. Я попытался представить необыкновенную пилу, которой огромное дерево спилили, но не мог ее представить. Внутри ствола зияла пустота, как ночь. Обрубленные топорами ветки свалены были в кучу и успели завянуть, и ранним утром пронзительно запахло терпким запахом умирающего дерева, и мне стало жалко его, себя жалко, и еще маму.
- Давно его надо было спилить, - пробурчал дядя Эдик, указывая на тополь.
- Да, - поддакнул незнакомец, - пассажиры жаловались...
- А кому он мешал? - поинтересовался я.
- На нем было много вороньих гнезд, - начал объяснять незнакомец, оглядываясь, и я оглянулся, и - дядя Эдик.
С той стороны, где солнце, показался электропоезд. Стремительно он приближался; наконец затормозил и остановился, двери в вагонах раскрылись, и перрон за одну минуту опустел.
- Ну и что? - не понимаю.
- Короче, - сказал дядя Эдик, - вороны летали и какали на пассажиров, и мне, - вспомнил, - однажды насрали на шляпу.
- Когда это ты носил шляпу? - удивился незнакомец.
- Носил, - подтвердил дядя Эдик, доставая из кармана бутылку - и за кучей обрубленных веток передал незнакомцу. - Шел в туалет, как и сейчас.
Подошли к домику с распахнутой настежь дверью, над которой буква "М".
- Лучше было бы, - сказал я, - чтобы они какали, - и я догадался, чего не хватает этим утром, а если привык к чему-то - уже внимания не обращаешь, и когда это перестает быть, а все на свете когда-нибудь перестает быть, сразу этого не замечаешь, только чувствуешь грусть и пустоту внутри себя. Потому что внутри, то - что снаружи.
Так я думал, а незнакомец пил из бутылки. Двери в электричке закрылись, и она засвистела, набирая скорость. Я наблюдал, как мелькают окна, и видел в них пассажиров, которые завидовали, конечно, этому с бутылкой.
Когда дядя Эдик вышел из туалета, на ходу застегивая ширинку, - рельсы еще гудели.
- Эх, присосался, - сказал он незнакомцу, наступая с хрустом на обрубленные ветки. - Оставь мне немного.
Незнакомец передал ему бутылку и засмеялся. Как быстро он опьянел, подумал я, а дядя Эдик поднес бутылку к глазам и через стекло посмотрел на солнце, потом губами обнял горлышко, задрал голову и одним глотком прикончил, что там оставалось.
- Чего смеешься? - спросил он у незнакомца и насадил пустую бутылку горлышком на обрубок сука.
Вдруг незнакомец будто опомнился, опять изменившись лицом - оно у него осунулось и почернело при поднимающемся все выше солнце, - и тени от предметов на земле отбрасывались короче и чернее, или синее, - и, не попрощавшись с нами, он пошел дальше по дорожке вдоль путей, а потом стал перешагивать через рельсы.
- На самом деле, - говорю, - не надо унывать.
- Ты так думаешь? - ухмыляется дядя Эдик.
Прогулялись по пустому перрону, вошли в одну дверь вокзала, а в другую вышли, перебрались через рельсы и оказались на той самой дорожке, по которой шагали час назад. Теперь при ярких солнечных лучах все казалось совсем другим, и у людей, что встречались на пути, были не чайники на плечах, а лица, у каждого - свое, и с каждым я здоровался. Один из них - без глаза остановился и протянул мне руку. Я тоже протянул свою. Потом одноглазый поздоровался с дядей Эдиком.